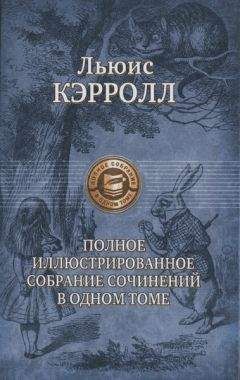Льюис Кэрролл - Фантасмагория и другие стихотворения
Меланхолетта
Она весь день была бледна,
Таила грусть во взоре,
Вздыхала к вечеру она,
Своей печали вторя:
«Я завтра спеть тебе должна
Элегию в миноре».
Сказать же, право, я не мог,
Что рад был слышать это,
И я, свой горестный чертог
Покинув до рассвета,
Блуждал, пока не вышел срок
Печального обета.
Сестра-печаль! Мой скудный кров
Ты скорбью наполняешь,
Я возносить хвалу готов,
Когда ты засыпаешь,
Но, только сбросишь тяжесть снов,
Ты вновь слезу роняешь.
Желая утолить хандру,
(За слог прошу прощенья)
Я в Сэдлерс Веллс свою сестру
Повел на представленье
В надежде, что она к утру
Изменит настроенье.
Я пригласил троих повес:
Они могли всегда вам
И меланхолию, и стресс
Смирить веселым нравом.
Был Джонс игрив, был Браун резв,
А Смит был самым бравым.
Служанка подала обед
И так была любезна,
Как я учил ее… Но нет —
Вновь слез отверзлась бездна.
Сам Джонс шутил с ней тет-а-тет,
Все было бесполезно.
Игривый Джонс, игрив вдвойне,
В весьма шутливом роде
Повел рассказ свой о цене
На обувь и погоде.
Она в ответ одно: «Мне не
Помочь в моей невзгоде».
Я торопил: «Венец стола!
Попробуйте форели!»
«Венеция… мост Вздохов… мгла…
Душа томится в теле…» —
Она, казалось мне, была
Вся в Байроне и Шелли.
И нет нужды упоминать,
Что нам на том обеде
Еду пришлось чередовать
С рыданьем юной леди.
О! Как хотел я сыром стать
Тем, что был мною съеден.
Не тратил Браун лишних слов:
«Мадам! Вы предпочли бы
Охоте псовой рыбный лов?
Охоту — ловле рыбы?
Ответьте честно мне, каков,
Сударыня, ваш выбор?»
«Когда ты сам тоской убит,
Тут явно не до лова, —
Трагический имея вид,
Она сказала. — Что вы!
Из рыб мне близок только кит —
Он слезы льет китовы».
«Король (как всем известно) Джон»
В тот день давала труппа.
Я был подавлен и смущен,
Услышав: «Это глупо».
Она слезу, исторгнув стон,
Ронять пыталась скупо.
Старались мы в который раз
Развлечь ее — вдоль зала
Печальным взглядом тусклых глаз
Скользя, она сказала:
«За рядом ряд…» — и в тот же час
Сестрица замолчала.
Послание ко Дню святого Валентина
[Другу, который выражал неудовольствие тем, что я был рад его видеть, но, как ему показалось, не очень огорчился бы, если бы он не пришел вовсе.]
Ужели радость нам видней,
Едва минует пара дней,
Тех, что являются за ней
В тоске и скуке?
Не можем разве мы друзей
Любить в разлуке?
Я разве должен быть готов
Под гнетом дружеских оков
От милых сердцу пустяков
Отречься сразу
И ввергнуть в скорбь в конце концов
Свой бедный разум?
Я разве должен быть угрюм,
Худеть, бледнеть от мрачных дум,
Печать dolorum omnium[1]
Обозначая,
Пока вам не придет на ум
Явиться к чаю?
И разве должен плакать тот,
Кто дружбу истинной сочтет,
Всю ночь страдая напролет,
В полубессонном
Бреду приветствовать восход
Тоскливым стоном?
Влюбленный, если милый взгляд
Не видит много дней подряд,
Рыдать не станет невпопад
Как одержимый,
А сложит несколько баллад
Своей любимой.
И если он их поскорей
Пошлет избраннице своей,
Письмо доставят без затей
По истеченью
Тринадцати февральских дней
По назначенью.
И где б вы в следующий раз
Меня — во вторник, через час,
В толпе ли, с глазу ли на глаз
Ни повстречали,
Я верю, что увижу вас
В большой печали.
Три голоса
Первый голос
Он пел соловушкой хорал,
Он с каждым счастье разделял,
А бриз морской волной играл
Он сел — подул наискосок
На лоб игривый ветерок,
И шляпу снял, и поволок,
Чтоб положить у самых ног
Чудесной девы — на песок,
А взгляд ее был хмур и строг.
И вот, за шляпой шаг свой двинув,
Прицелившись зонтом-махиной,
Она попала в середину.
И с мрачной хладностью чела,
Хоть шляпа мята вся была,
Нагнувшись, шляпу подняла.
А он от грез был лучезарен,
Затем сказал, что благодарен,
Но слог его был так кошмарен:
«Утратив блеск, кому он нужен
Сей ком, а денег стоил — ужас!
К тому ж я шел на званый ужин».
Она ж в ответ: «Ах, зван он в гости!
Что ж, вас дождутся ваши кости!
Блеснуть хотели шляпой? — Бросьте!»
Вздыхает он и чуть не плачет.
Она усмешку злую прячет,
А он как пламенем охвачен:
«Да что мне «блеск»? — и он поведал:
Я б досыта всего отведал:
Там чаем — чай, обед — обедом».
«Так в чем преграда? — Ну ж, не трусь.
Путь к знаньям дерзостен, боюсь,
Ведь люди — люди, гусь лишь гусь».
Он простонал взамен речей,
И мысль уйти, да поскорей,
Сменилась: «Что б ответить ей?!»
«На ужин! — и хохочет зло, —
Чтоб улыбаться за столом,
Упившись пенистым вином!»
«Скажите, есть ли униженье
Для благородного творенья
Найти и в супе утешенье?»
«Вам пирожка иль что послаще?
Манеры ваши столь изящны
И так — без снеди преходящей!»
«Но благородство человека
Не в том, что он в теченье века
Не съел ни ростбифа, ни хека!»
Ее глаза сверкнули строго:
«Лишь подлый люд, а вас тут много,
Шутить способен так убого!
Коптите небо для утех
И землю топчите — вот смех —
Они не ваши, а для всех!
Мы делим их, хоть поневоле,
С народом диким, что на воле
На обезьян похожи боле».
«Теории плодят сомненья,
А ближний, я не исключенье,
Нам дан не ради осужденья».
Она разгневана, как волк,
А он шел в тьму наискосок
И тростью исследил песок.
Валькирией, средь страсти, бреда,
Она сражалась до победы,
Чтоб слово вымолвить последней.
Мечтая, словно ни о чем:
Сказала, созерцая шторм,
«Мы дарим больше, чем даем».
Ни «да», ни «нет» в ответ, но светел
Он стал, сказав: «Наш дар — лишь ветер», —
Он сам не знал, что он ответил.
«И есть тогда, — сказала так, —
Сердца, что могут биться в такт.
Что гонит вдаль их? Мир? Сквозняк?»
«Не мир, но Мысль, — он ей в ответ, —
Безбрежней моря в мире нет,
Ведь Знаний тьма — ведь Знанье свет».
Ее ответ упал сурово
На его голову свинцовым,
Огромным слитком полпудовым:
«Величье с Благом свет льют вечный
Но легкомыслен, опрометчив,
Кто каламбурит век беспечно.
А кто, куря, читает «Таймс»,
А в Рождество идет на фарс,
Преступным кажется для нас!»
«Ах, это правило подчас, —
Стеня, зардевшись и стыдясь,
Сказал, — сложней, чем преферанс».
Она спросила: «Отчего же?»
Свет мягкий ощутив на коже,
Воскликнул он: «Не знаю, боже!»
Волною золотой пшеницы
К монахам в окна свет стучится,
Природный цвет дав рдевшим лицам.
Взгрустнув, что он краснел, ославясь,
Сказала горько: «Нам на радость,
Величье побеждает слабость».
«Ах, истина, ты хуже бремени, —
Сказал, — ты так несвоевременна,
Не лезешь в лоб, тяжка для темени».
И покрасневши в первый раз
Сказала хладно, напоказ:
«Она тяжка, но не для вас».
Она опять взглянула строго.
И он взмолился: «Ради бога!»
Она смягчилась хоть немного:
«Ведь эта мысль, — хоть вы с трудом
С ней миритесь, — ваш мозг умом
Вдруг осветила, скрывшись в нем.
Лишь тот, кто плакал, тосковал,
Вместить способен идеал,
Что высшим Знаньем осиян.
Как цепь, что все соединяет,
Как колесо, что поднимает,
Нас Мысль Познаньем озаряет».
На этом он расстался с ней.
Никто из них не шел быстрей.
А он казался все мрачней.
Второй голос