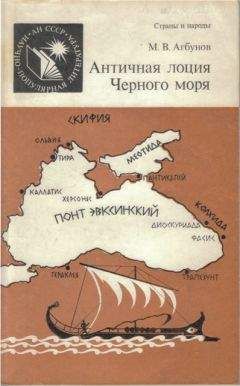Елена Сунцова - Голоса на воде
Воздух имеет происхождение своё от зноя и холода.
Якоб БёмеНебо такое же, как тогда.
Облако. Тёмный зной
опустошая, горит слюда,
вставшая надо мной.
Рыбы, покрошенный мелко лёд,
лава асфальта, плит.
Воздух родившийся солнце пьёт,
вывески шевелит.
Вытянулась мгла,
вылилась на землю,
окунула в мёд,
подошла ко мне.
Тени на бочок,
сон гречишный, мятный,
где моя ладонь,
воздух, вдох.
И старая река, и жар
к лежащей яблоне привыкли
и помнят, как дрожал навыкат
беспомощный горящий шар
большого яблока на ней,
и как подрагивала, билась,
не видя неба и людей,
не зная, что такое — милость.
Над голубым, как в иле водоросли, днём
судьба качается на вытянутом стебле,
увидишь сон такой, как видела река,
и воздух переменишь на прибрежный, —
войди, трава, стучи, ещё найди,
покуда мне не встать, не стать тобою,
мне горная дорога не бела,
не ровен шаг под нею, сок не выпит.
Там, где Америка, босиком,
трогаешь языком,
розы истаявшим лепестком,
помнила, шёл пешком.
На, береги и прощай, спасти
можно того в пути,
кто не забыл, что лежит в горсти
мокрый песок, штиль.
Здесь облачно, плывёт асфальта тень,
меж плитами стареет тёплый камень
голыш — как в сухарях, окатан щебнем,
и гром, как сердце, вздрагивает в горле.
Застынем, завернёмся и пойдём.
Пугливо голуби неслись,
и слабая листва металась,
застигнутая, наспех вниз
ссыпалась — и двоилось, рвалось
овеществлённое воды
сознание, поток зелёный,
коснувшееся высоты
тоски, как свет, одушевлённой.
Не вознаграждена, обручена,
растеряна тщетою повториться,
покою и размаху вручена,
как белая над облаками птица, —
так сквозь меня просвечиваешь ты,
и планеры из клетчатой бумаги
уложены за пазухой, впритык,
у сердца, в левом внутреннем кармане.
Вечер, дерево, восток,
ветер, озеро, восторг.
Обними и посмотри:
цеппелин поёт внутри.
Тишина, и вдалеке
голубь на его руке.
Увидит темноту и дрёму
и невысокое метро —
шатёр, раскинутый под нами,
и в белой лилии пыльцу,
как в терракоту сна, уткнётся.
Божок покинутый, пойди,
летай — так, видимо, влетает
пугливый бражника детёныш
в моё раскрытое окно.
Океан обнимет юг
лавой кружащихся рек —
ледяней гренландских рун
берег, слеп.
Одолень-волна цветёт
ото дна и пьёт траву,
то подталкивая плот,
то к нему.
…и договорил
ветер, снова ветер,
падающий свет
зарево открыл.
Изнутри воды,
белое, качалось,
посмотрю — причал,
водоросли, дым.
Белая вода,
сколько хватит дня,
небо и металл,
вспоминай меня.
Шелохнётся взгляд,
голубь и огонь,
помаши рукой,
тронь.
Парит подснежнико-подсолнух,
плывёт подсолнухо-подснежник,
освобождён и нарисован,
летает, бежев.
Вода, как северная Волга,
что горевала и горюет,
что небо всходит — и надолго
течёт к июню.
Небо темнеет — рухнет скоро
в воду, догонит воду, —
увидели, как самолёт
пролетает над теплоходом.
Мы дети, живём на даче,
мы, за руки взявшись,
забыли вернуться в город,
и первым был тот, кто старше.
Где бег
Стихи, написанные в России
* * *Любимая, любовница, любовь,
бесполая, беспамятная, ты
оставила мне кров — но выше кров —
ного родства оставленная ты.
Похожая на огненный фонтан,
на медленный и медленный разбег,
живи теперь не та — или не там,
где бег.
Чужая жизнь врывается в окно
клочком беседы, отголоском спора,
взрывая позабытое давно
реальностью чужого разговора.
И тут же, словно вымолена, мне
является блаженная разгадка,
как ласточка, мелькнувшая в окне,
как ясность за секунду до припадка.
На первой глади полотна,
распахнутого утром в мае,
окно, развёрнутое в сад,
от ветра вздрагивает тенью.
И скатерть тихая лежит,
как одеяло уголками
подвёрнутая, отражает
сирень и белую сирень.
Ненужный, плачь не плачь,
до времени воспетый,
дрожащий, как стекло,
держащийся за ним,
не помнящий удач,
показывавший, где ты,
живой, любви назло,
будь ныне ей храним.
Молчание и тьма,
но что ему молчанье,
когда — меридиан,
когда — земной магнит?
Сквозь белые дома
проходит, горяча и
сильна, как океан,
покуда компас спит.
Молчи, моя просодия, молчи.
Мне страшно? Да и Бог себе судья.
Гори, рождая тени и круги,
летуч, как неба свет, огонь безмолвный.
Играй, моё желание, играй.
Опустоши ларцы, не трогай нити.
Пока живу и кутаюсь в слова,
любое горе — труд и клад подземный.
Ищи, моё сравнение, ищи.
Рождающийся вал тебе поможет.
Хлестнёт — и успокоится язык,
всеядный, насекомый, но спасённый.
И речи трезвой и бездонной,
о наслаждение, и волны
не останавливаются,
как ночи северной сиянье.
Моя весна и жизнь моя —
бег вынул бьющееся сердце,
клинок из ножен, взвился плач —
рассыпались и возродились
другими — призраками — в нас.
Жизнь снова выдохнула: нет,
и замолчала, торжествуя,
не останавливаясь, вслед
на обожжённый локоть дуя.
Смотри: с седьмого этажа
видна тюрьма, и город едет,
пошатывается, держась
за спины временных соседей.
От целого смятения и лжи
совсем окаменело, пламенело,
едва касаясь времени, смотрело
и, отзываясь, прорастало в жизнь,
выклянчивало: Боже, ну спаси,
ну помоги мне вырваться, раскрыться,
впитать дождинки-искры, расцвести,
сквозь твёрдый камень дотянуться, сбыться —
тебя мне мало, ты ещё больна,
поспи ещё, ты снова заболеешь,
не хватит сил, умрёшь во сне, одна,
увидеть, что живой я, не сумеешь.
И вот, послушна голосу, молчу
и к свету не протягиваю руки,
не вижу, не вдыхаю, не лечу,
как ты, неповторима до разлуки.
Как платок, упавший на пол,
как блуждающий огонь,
неизбывным, новым знаком
буду связана с тобой.
Вспыхнуть, вспомнить — не ответит.
Не дождаться, помянуть.
Не печалься, вторит ветер.
Ничего, что не задуть.
За ним рассыпается и — свет прокрадывается — гаснет
белый закат — наваждения — зеленеют
в водном тумане огромные клёны, липы.
Парк на краю залива, конец апреля,
статуи дремлют в дощатых опочивальнях,
в зимней холстине туи и кипарисы,
стылая, злая весна. Он выходит к морю —
пристань — сейчас это только названье, море:
в твёрдых морщинах, утратившая способность
помнить и отражать ледяная толща.
Словно очнувшись, оглядывается: лето.
Теперь — навеки, Боже мой, теперь — навеки.
Запомню: вкрадывался голос, ночь стояла
и осыпалась, как сухими мотыльками,
в труху и клочья, целовали, находили,
вдвоём нащупывали первое биенье.
Роман с Москвою, Боже мой, роман с Москвою,
в домах понравившихся падают и тлеют,
кружась, страшнее и роднее Петербурга, —
я вобрала твои безудержность и голод
и распылила их по улицам покатым.
Белее снега, Боже мой, белее снега
течёт бумага, переваливаясь навзничь,
меня пугая и меня одолевая —
вот я беру тетради с кажущимся детством,
и до сегодняшнего дня всё правда, правда.
Какая может быть надежда —
на то, что так земля мала?
Мир продолжается, невежда,
за краем твоего стола.
Пусть голуби летят, и руки
бельё развешивают над
тобой, окутывают звуки
пускай, молчанию впопад.
Боль хлынет, как вода
в расплавленное олово:
немедленно прочти,
как водится, смолчи.
Не ветер, но полёт
срывает с веток вишни
цветущей лепестки
и гонит вдоль реки.
В Москве до боли головной
так невозможно дотянуться,
так воспоём три пачки соли —
едва початые, стоят
на полке шкафа углового,
и с переулка Углового
в окно влетает птичий гвалт.
Рассвет тихонько голубеет,
весь шум Москвы ушёл в метро. Я,
не ев два дня, скребу по полкам
чужого шкафа углового,
а переулка Углового
мне фонари в лицо горят.
— Что, — мне хохочут фонари, —
кто ночью Вала Земляного
выдерживал нестрогий взгляд?
Кто, торопясь на Вал Грузинский,
Бутырский Вал перебегал?
— Ну, тише, тише, фонари,
я голодна, а вы горите,
в шкафу нашла я макароны,
и постаралась их сварить,
и вскипятила чай монгольский,
канал включила «Евроньюс»,
сижу на круглом табурете
и в листья первые смотрю,
сиреневые в вашем свете.
И никакого Интернета,
ни ноутбука, ни «Билайна»,
и лишь в блокноте жизнь моя —
так это ж юность! Здравствуй, здравствуй,
твои чужие макароны,
чужая соль, родные листья,
выходишь в город — как экзамен
самоуверенно сдаёшь:
родной асфальт, намокший за ночь,
родную ночь в чужой квартире,
в родной чужой чужой Москве —
вот этот вспомнившийся пыл,
вот это за руку с тобою,
вот эти нежность и нелепость,
вот этот дом, где нас не ждут,
где нас не ожидает лето.
Утопленница-жизнь,
ты шорохом бумажным,
шуршаньем мокрых шин
и поцелуем влажным
зовёшь меня с собой,
и шума городского
размеренный прибой
меня накроет снова,
прости меня, я враг,
я хуже — перебежчик,
я скрадывала шаг,
я знала, где полегче,
отшельника в лесу
сгоревшем не бывает,
прими меня — несу
тебе, ещё живая.
Были с тобой под одним небом,
были с тобой одни,
плыли, дотягиваясь до берега
тёплым хребтом, дни.
В озере тонущего дерева
тень, отраженье, падь,
только и делали, что снегом
трогали ту гладь.
Ветер бежевый поёт,
адресок в ладони тает,
никуда не улетает
врытый в землю самолёт.
Со двора и по двору
катят на велосипеде
снова выросшие дети,
разъезжаясь поутру.
И рассветный первый дождь
звери нюхают в загонах,
что напротив, за забором,
и под струями идёшь.
Какое дерево цветёт,
какое небо каменеет,
как пену дерева обнять,
как обойти судьбу садовой
ненужной розы, как избыть,
как нежности огня ответить,
его несчастье как забрать,
как вынуть — плачь и снова бойся,
меня лови — и снова бойся,
ко мне подкрадывалось пенье,
тебя оно схватило всё.
Всё, что угодно, только не тебя —
и молодость со спящими дарами,
и подлинность, не движимую нами,
и что угодно — улетай, губя.
Уверенную вверенную помощь
благоволи — вели — а воплоти
разгаданную полночь — и лети,
опомнясь, вспоминая, не опомнясь.
Тихонечко, как рай,
как медленное утро,
как время — выбирай,
как выбрать можешь будто,
как будто ты один
встречаешь и торопишь,
невидим, невредим,
в слезах прощанье прочишь,
и, заговорена
молчанием, спасеньем,
я стану неверна
тому, произнесеньем
чего — так в темноте,
наталкиваясь, ищут —
привязана, как те,
к тому, кого не слышат.
И недовопрошанье, и вода,
и солнечное недовоплощенье
обрушатся — стоишь и вспоминаешь
свои же строки, стронувшие лёд.
Царит закат, и вот не вспоминаешь,
а видишь: за окном проводят лошадь,
она устала, поводырь устал,
я не увижу, но они воскреснут
и утром снова под окном пройдут.
В лавине повторения таится,
вся на холмах, вдвойне родная Кушва,
вся белая от сна или от снега,
налево — храм, гляди налево, храм
неразличим за хлопьями метели,
в отличие от озера — направо,
и дышит, распахнувшееся морем.
Спасённая, представившая их,
оставившая их, живу их встречей,
живу — надежда, ожиданье их,
их вопрошанье, разум, тьма и голод,
их воплощенье, радость и борьба.
Не вернёшься, не вернёшь,
не возьмёшь себе на память
снег, с утра начавший таять,
на лету скрываясь в дождь.
Капли на воротнике,
на стекле автомобиля,
на бумаге, на руке,
на ковре, седом от пыли.
Мой бедненький, оставь меня любимым,
под этим небом розово-зелёным,
над этим камнем, этим чёрным дымом
рассыпь меня снежком заговорённым.
Прощай, листва, Москва, моё прощанье
встречай, влекома, что моё хотенье,
шептанье, рифмованье, узнаванье,
тебе не сгинуть, это наважденье.
Люби, как я, невидимая, буду,
гляди вослед, пока ты просто помнишь,
что я жалела встреченных повсюду
людей, немного на тебя похожих.
Я подходила к этому окну,
отодвигала штору и махала
рукой подруге, подошедшей тоже
к окну напротив — моему окну.
Какая радость, что ушла зима,
которую я снова не заметил,
чей это голос? В первое число
втекала ночь из Земляного Вала.
Дохни как на стекло — и он исчезнет.
Замри, как Рождество, — и он споёт.
Сгораньем полнится огонь.
Я думала, огню не больно.
Ты будешь радоваться: сдался,
упал, как падают во сне.
Подкрадывается весна,
и перехватывает горло,
и с веток стряхивает снег,
как слёзы стряхивает горе,
поскольку юность и любовь
застыли, как приговорённый,
я боль и ненависть забыла,
а вспомнила тоску и стыд.
Волной родства тяжёлый водоём,
срываясь, в спину бьёт покато, обнаружив —
отболит, не отболит —
меж рёбер вынутую чашу. Подхватила,
да пересозданы тобой, начнёмся здесь,
не убежать, и одновременно стоящими на месте
из окна теперь увидеться. Пуст яблоневый сад,
пусть, как потерянное сердце, кровоточат
и алеют высоко — не доберёшься — сада щёки.
Заблудившийся огонь, тебе приют.
Невеликая пропажа,
рассуждая откровенно,
то, что не было неважно,
посмотри, послушай, Лена.
В воду канула иголка,
в воздухе узор из линий,
полотно сырого шёлка,
окунувшееся в ливень.
Я последнюю рубаху
из него себе сошью,
не оглядываясь, ахну,
помню, но не узнаю.
Пусто-пусто в чашечке.
Кот клубком на тряпочке.
Мы зимуем тихо,
не тревожим лихо.
Навестили крестницу,
постоим на лестнице.
Тянемся, дотянемся,
прянем, растеряемся.
Я пойду, счастливая,
поступь торопливая.
Лёд дорожки — бух, бух,
снег на ветке — пух, пух.
Ты в трамвае красном,
и тебе всё ясно —
буйная головушка,
дальняя сторонушка.
Уже бледнеют облака,
и пекарь встать спешит,
хлебов румяные бока
в угольях сторожить.
Дым из одной трубы, другой,
и время уходить,
следы зашаркивать ногой,
ладонь в снегу студить.
Ты остаёшься, весела,
а ты, весёлый муж,
за эту ночь спалил дотла
твердейшую из душ.
И путь теперь тебе один:
за мёдом, за вином,
и хмель полощется в груди,
колодце ледяном.
В сиянье Рождества войдёшь,
смотря в Её лицо,
свечу за здравие зажжёшь —
и выронишь кольцо.
В городе Кушва зима, твёрдых пластиковых мышат —
одинаковых, рыженьких, с грушей в лапках —
нумерует белёсая девочка-продавщица,
пишет графитным чертёжным карандашом
снизу, на основании: «18»,
«18», и «18», и «18».
Пронумеровав штук сто,
принимается ставить их на стеклянную этажерку:
одного за другим, удерживая за ушки,
ряд за рядом, следя, чтоб смотрели в одну сторону.
И вот куб стеклянный похож становится на пенёк,
увитый песочно-рыженькими опятами,
тем не менее, это мышата, а не опята;
городок, занесённый снегом по подоконник —
проросшее льдом окно оплыло в сугроб, —
а не март, где сосновые щепки медовые вдоль дороги,
равноденствие — воздух, ликующий над головами
нашими.
Как продавщица мышат, старательно и упрямо
каждому дню проставляю одну лишь цену:
равноденствие, равноденствие, равноденствие,
равноденствие.
Совсем неотличима от крыла,
внизу запруда встала,
толща снега
её — столбом — укутала до дна:
дном, глядя с неба, кажется поверхность
её. Снег, самолёт пока летят
в непротивоположных направленьях,
вода, смыкаясь с воздухом, твердеет
и обрастает инеем-пером:
вдохнула вместо воздуха лишь пух.
Мамина эсэмэска: «На улице сильный ветер».
Сильный ветер раскачивал между двумя домами,
как в гамаке, бумагу или пакетик,
от четвёртого этажа до девятого этажа,
приземистая старушка стояла у выцветшего куста,
вино полыхало, как щёки, в сужающемся бокале.
Не ненавидь — ему это не поможет,
левым плечом пожми, отгоняя беса,
вспомни, как охраняют, как окружают горы
тропу, на которой выходит за корнем корень
из твёрдой сухой земли, и тропа выводит.
Озеро распахнулось, бьются в лицо стрекозы,
божьи коровки ягодками брусники
падают с неба, которое тоже спасают горы.
Видно с балкона четвёртого этажа,
как наклоняются вправо деревья рощи,
в доме напротив — стемнело — обнявшись,
докуривает пара,
я возвращаюсь — действительно сильный ветер —
в комнату, полную света, дыханья книг,
быстро сажусь, пишу: «Да, спасибо, мама».
Когда-нибудь договорим —
наговоримся до прощенья,
до угасающего, — Рим
четвёртый — всё же возвращенья.
Мне больно, но не виновата,
не знаю, что ещё сказать,
кого ещё подушкой мятой,
забывшись, поутру прижать
к охладевающему — ровно
стучит постылое «прости» —
сердечку, яблочку, подробно,
сквозь пальцы, вслух произнести.
Видишь слово, оканчивающееся на «е»?
Сердце, кашне, налегке,
канапе, буриме, брекеке —
птицы в руке, в реке.
(Утром открыла форточку —
отчётливым голосом Беллы Ахатовны
Ахмадулиной: «Славься, славься!»
Оцепенела, вылезла посмотреть —
никого, только люди шумят да отцветшие
ветви глаза отводят.)
Молчание? Любование? Упоение?
Питие? Пение? Зрение? Удивление?
Неостановимые чтение и течение?
Некрупные, пёрые, серенькие, пегие.
возьмёт дыхание спасёт
моё дыхание спасёт
не утоли не уходи
не утоли не уходи
я выйду утром на балкон
в начале тающей зимы
белею я — тепло-тепло
зимы
и снизу круглым малышом
барахтается на снегу
смотрю дышу
дышу
Над беззащитными кошачьими ушами
не бояться одичать:
пирацетам, циннаризин, новопасссит,
вдруг вспоминалось, и пожаловалась:
— Книга: кость обложки,
мякоть сердца в ней, как в рёбрах,
кровь под кожей —
но отдельно от меня.
Быстро-быстро течёт вода
в Ангаре, я смотрела на зеленоватую Ангару,
но мне снится вода очень яркая — купорос —
море, море и волны. Во сне я знаю, что вижу сон,
сон во сне: синий ладан, прохладный свет в глубине,
это твой сон, его для чего-то показывают мне.
Только что её заставляет так быстро течь,
так бежать, торопиться спрятаться, иль она —
безусловно, душа — не знает, что всем видна,
что изменчивость тела лишь подтверждение быстроте,
быстроте молчаливого страха, податливости его,
да, прозрачна душа, но видима тень её.
Своенравница: в ней отражению не успеть
поглядеться в себя, если только она не лёд,
и когда она лёд, те, кто в небе, слетаются посмотреть,
и тогда она с ними — в охапку, мёртвая — говорит.
Лёд сгорает в огне разговора и собеседник.
Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, молчу.
Как ты меня одолевал —
сижу с закрытыми глазами,
завязав.
Дрожат и тают на воде упругой листья.
Два яблока со сморщенною кожей:
зелёное и красное, без гнили,
лежат не рядом, словно старики.
Во всех моих сгораниях, во мне
живёт и дышит, воздухом летает
желание, вкушённое вовне,
оно не утихает, но оттает.
Попробуем безбольно воплотить
угаснувшее было мановенье,
и отвернуться, снова возвратить
другое тленье,
которым продолжаюсь и живу
и вижу превращение воочью —
лови меня, скажу, приобниму
и истлеваю, обращённа в клочья.
А. И.