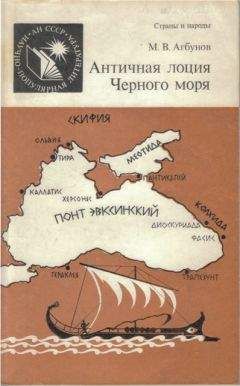Елена Сунцова - Голоса на воде
А. И.
Боль в белокожий воздух бросив,
её из воздуха открыв,
я принимаю эту осень,
как зимний и тревожный Крым.
Она сияет. Он сияет.
Я подошла. Подобрала
листок, который потеряет
изгиб и мягкость, порвала.
Екатерине Боярских
Глаза, чтобы плакать ими,
ладонь, чтобы прикоснуться
к холодному лбу. Цветы и
трава, и нельзя вернуться
туда, где начало лета,
там дремлет огонь напрасно,
и боль, как причина света,
беспомощна, но прекрасна.
Ты улыбаешься во сне
и день холодный согреваешь,
меня напрасно обнимаешь —
меня с тобою рядом нет.
А про улыбку я сама
придумала, тебя не видя,
я всё равно согрелась, выйдя
из помрачения ума.
Я никого не назову
из тех, кто рядом был со мной,
из тех, кем мучилась, любя,
кого забыла.
Так происходит наяву —
идёшь по улице весной,
ещё не веря, что тебя… —
происходило.
Пообещай, что назовёшь
не имя, но одно из тех
вдвоём изобретённых слов,
прикосновений,
и если это будет ложь,
то не такая, что во грех:
ты с той секунды будешь нов
и откровенен.
Мне так вчера понравилось
остаться незамеченной,
кормить тебя черникою,
чего ни говори.
И я тебе, не жалуясь
(всё жаворонок, жаворонок),
протягиваю ягоду,
лиловую внутри.
Ты забываешь обо мне.
Ну что ж, как хочешь —
напророчишь:
я во сне
не видела, как мы с тобой вдвоём
плывём
в Итаку.
Наказанный Уайльд
нам не являлся,
не нахлынула свобода,
и волной
на берег мой не выбросило утлый
челнок — его растерянный прибой
убил, как жертву кораблекрушения.
Ты мой,
где б ни скитался, сколько б ни молчал,
ни делал больно, больно, делал больно,
ни всхлипывал во сне. И по ночам
мы порознь да не вымолим друг друга
у бога Адриатики и ветра
невольно,
не забудем позабыть
забыть о том, что с юга не летают
истёртые до поцелуя письма,
я
всё напишу и так, и до, и вместо,
и после, в темноте, от слёз солёной,
развенчанная новая невеста.
Желание тебя обнять
переплетается с желаньем
уснуть, желаньем отменять
сегодня утром все дела. Я
его так жадно обниму,
так смело побегу навстречу,
что совершенно не замечу,
как снюсь ему.
Возьмёт меня за ручку, и пойдём
в кино, и есть мороженое, пить
коньяк, и слушать то, что зазвучит
в машине той, которая помчит
домой.
Сегодня я не видела его,
и мысль о нём сверкала, как вода,
безмолвно отражающая свет
огней вечерних, льющихся вослед
за ней.
И вот ночное время истекло,
растаяло мороженое, выпит
коньяк — он пьяный, пьяная она,
она, пожалуй, более пьяна,
чем он.
Н. К., К. В.
Сообщества, в которых я состою, —
смутившиеся сообщества.
Что это?
Объяснял мне Андрей Хлобыстин
в день моего двадцатишестилетия.
Мы едем в автобусе из Петергофа,
в метро до центра:
— Её лицо холодное и злое,
ногти синеватые, как у негров.
Я пытаюсь расслышать, покуда несётся поезд.
Какое-то время молчит.
— Однажды я ехал в метро, покурив грибов,
тьфу ты, понюхав, — короче, понятно — эта
кем-то приведённая и рассаженная
толпа метроидиотов
увиделась мне как картина Босха:
мальчик с плеером щёлкал зубами,
раскачиваясь и лая,
бабка с кошёлкой — оборотень в очках —
обросла чешуёй и шерстью.
Окостенев, еле выбрался на Гостинку.
У тебя же такое было?
— Да, — вру Хлобыстину я, напрягая связки, —
было! Кошмар! Я тебя понимаю!
— Видишь,
и она для меня такая, такое чудо —
вище, в непрерывном трипе не угасает
желание так обнять её, чтобы слезла
мерзкая чешуя.
Мы выходим в город,
в котором я состою,
город, который оброс Венецией,
колыхаются
водоросли, отовсюду воняет тиной,
я, раздвигая, бегу, понимая: рано,
ты ещё не отважился, я свободна,
прошлое надвигается.
Вот и дом,
он, конечно, чужой, но дом,
я включаю свет —
потемнело —
звонок —
голос ленивый, ясный:
— Здравствуйте, Лена дома?
Другая ночь,
я стою на Литейном мосту,
вглядываюсь в поднимающуюся воду.
— Пойдём, — окликает меня мой случайный
спутник, —
собака уже замёрзла.
Как собаку зовут? Не помню,
чувствую, как заползает под кожу сентябрьский
ветер,
ты в это время ёжишься в самолёте.
— Пойдём.
Мне оттуда запомнилось — ванна, свечи,
день, я никак не могла его разбудить, собака
скулила не переставая, лизалась, я вышла,
притронув дверь,
уставилась в оцепеневшие ветви.
Потом провожал меня, целовал в скулу.
Петроградка всосала в себя мои слёзы, горе.
Успокоилась: Петергоф.
— Вот уже десять лет мы на этой скамейке,
над нами смеются звёзды,
мы говорим про Даньку (героя романа. — Л.),
только Сунцова третья, —
чуть оборачивается та,
о которой рыдал Хлобыстин.
Покуриваю, молчу.
Ксюша ставит чайник,
Звонит телефон, она тянется через меня: — Алло?
В каком это изоляторе? Следственном? Почему?
Замолкает. Меня неожиданно крупно колотит
дрожь.
— Передам.
Мне, с улыбкой: — Лена, он не в Америке.
На таможне нашли четыре и три десятых,
он в темнице сырой. Какое
сегодня число? Двенадцатое. Вчера.
Год две тысячи первый. Сейчас будет чай.
Уходит.
Если бы тьма опрокинула нас — едва
вышедших из холодящего утра пешком в Москву,
я бы тебе улыбалась, не говоря,
ты бы, о, ты бы, прищуриваясь, молчал,
не было бы ни Венеции, ни рубля.
Дай мне такого утра, и убежать
дай мне, я, захлебнувшись, потом верну —
только бы повторять, только состоять
в летнего моря сообществе юрких рыб,
плача, стирая слёзы твои волной,
гаснет всё то, что было, потом верну.
1
Сара Джессика Паркер в автомобиле,
синем горячем автомобиле летнем,
Сара Джессика кокетничает с блондином,
думает о брюнете,
поднимает тугую бровь,
торопится к косметологу.
Киношный Нью-Йорк-второй
обнимает её и пристраивается сзади.
В шорохе декораций вторая Сара
пьёт остывающий американо, курит,
чтоб не простыть, перевязывает шарфом
горло. Ей навстречу выходит Шэрон,
Шэрон выходит к ней из автомобиля,
Шэрон и Сара-вторая сидят безмолвно.
Волосы Шэрон треплет киношный ветер.
2
Жить заурядной, семейной, типа той, что живут О. с Н.,
жизнью: О. утром, вернувшись, выгуливает ретривера,
Н. не был дома первые сутки. Ездить
в Ригу с любовником (тише, никто не знает,
шепчет О.). Быть оживлённым Н.,
что с интересом помешивает соус
для баклажанов. О., между тем, отметит:
в Венгрии, где я пишу PhD, вот эти
самые баклажаны зовут «закуска».
— Именно так, а в Италии, — Н. подхватит, —
это же самое блюдо зовут «оргазмо»,
наша любовь, Наф-Нафик, давно пиф-пафик,
ну, вот и пофиг.
3
Анна Петровна Керн надевает майку
«Русская Литература Прикольней Секса»,
радуется: получилось поехать в отпуск.
Весело Анне, не больно, не больно, весело,
всё только начинается, с Божьей помощью
всё обойдётся, всё хорошо закончится.
Анна бредёт одна по дороге пыльной,
видит: луна закатилась, как шар для боулинга,
как за несбитые кегли, за кипарисы,
чувствует трепет моря, снимает майку,
погружается в ночь по горло
1
Два путешественника, рядом
своенравный, беспокойный и изменчивый
их ветер.
Очарована тобой,
к нему прислушиваюсь,
им я наполняюсь и прошу
о мимолётном дуновении в мою родную сторону.
Раздует паруса,
взметнёт одежду,
перекроит по-другому
беспокойный и изменчивый их нрав.
Ему виднее —
высота есть высота.
2
Как хорошо оставить дом и путешествовать нам,
в этом словно молодость вернула неуверенность
и свежесть.
Всё сбылось и повторилось наяву,
я продолжения не вижу, лишь мечта
меня, счастливая, опять переполняет.
Не бывает так, бывает только в фильмах
с Т. Дорониной:
срывающийся голос, ожидание, любовь
как божество.
3
Лепестки алых роз
валяются у оперного театра
на твёрдой вечерней земле,
начинают уже ею схватываться, землёй.
«Схватываться» — так говорят о клее,
масляной краске, цементе —
о том, что намерено отвердеть.
Так и любовь — уж если отвердевает,
то в уготованной ей изначально форме.
Прости меня.
4
Я смотрю на осеннюю улицу, думаю о тебе.
В голове легкомысленная мелодия затихает,
сменяется новой — пронзительной, будоражащей.
Я думаю о листве,
родившейся, выросшей и умершей,
пока мы тянулись друг к другу.
Соки внутри деревьев по-прежнему тянут вверх
ветви — для новых листьев.
Зима, и весна, и лето, за ними осень,
листья опавшие, кружится голова.
1
Идёт банкир, качается,
вздыхает на ходу.
Его кредит кончается.
Сейчас он упадёт.
Качается, как лодочка
на ветреной волне,
в его портфеле водочка,
оставленная мне.
Мы выпьем, свяжем лыко и
присядем на кровать —
одну судьбину мыкаем,
вдвоём и горевать.
2
Сидела у окна,
читала интервью.
Сегодня я одна,
сегодня я не пью.
И сердце колет так,
что, видимо, вчера
всё было неспроста,
всё было не игра.
3
Нам нравится игра
в рискованные прятки:
погашенное бра,
забытые перчатки.
Недолго целовать,
надолго расставаться,
по новой наливать,
по-старому скрываться —
однажды пропадём
в пленительном покое,
останемся вдвоём,
весёлые изгои.
На память обо мне
возьми сухие ветки:
они сгорят в огне,
пока на табуретке
покачиваясь, я
сижу с тобою рядом.
Я встану, и моя,
окинувшая взглядом
тебя, меня с тобой,
бегущая отсюда,
душа запомнит боль,
которую забуду.
Смахнёшь мне обморок с плеча,
как верно я тебя боялась,
как отваживалась таять,
как молила: уходи,
и, увлекаема тобою, не отдёргивала руку.
Ты моя, да, ты моя,
гремело в комнате, от голоса отвыкшей,
я отваживалась таять.
Посмотри. Поговори.
Страшней взаимности бывает никого.
Не выплачешь,
не вымолишь прощенья, а
сожмёшь в ладонях, стиснешь
иссохшие бутоны
до крошева, и стебли,
пустые и кривые,
сломаешь, и в труху же
их листья разотрёшь.
Колючки ранят.
Шелушится, как обветренная кожа,
осыпается чешуйками вода,
больное дерево белеет за окном.
Колючки ранят.
Я простила, уходи.
Живи, вольна, вольна, вольна, вольна.
Пари, родная времени волна.
И никого, всё глубже, глубже в лес.
Ни одного.
Пускай остатки каменной стены.
Пускай брусчатка с колющимся дёрном.
Все выселены, умерли, убиты.
Ещё немного, и меня найдут.
Мне будет проще умирать забытой,
чем тут.
Я собрала, уберегла.
Я убежала, снова убежала.
Когда-нибудь — спасибо говорю —
я разлюблю, я снова разлюблю.
Мне — мало.
Равноденствие