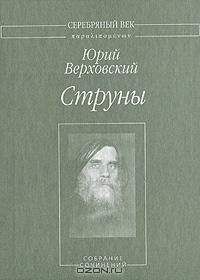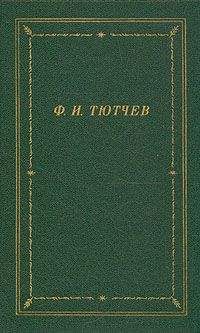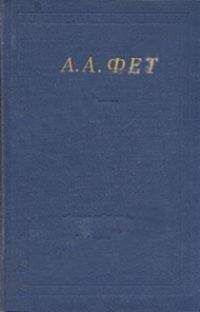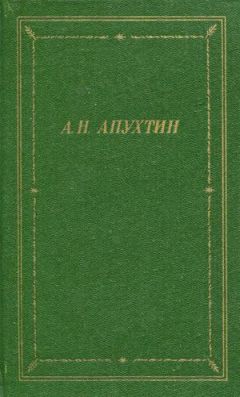Валериан Бородаевский - Посох в цвету: Собрание стихотворений
И третий – наш Александр Блок. Жизнь его прошла как прекрасная поэма. Подобно Орфею, растерзанному Менадами, он отдается стихиям жизни, и эти стихии, сожигая человека, преобразуются поэтом в ритмы, в гармонию, в красоту. Так говорил о себе Блок:
Сердце!
Ты будь вожатым моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу…
Хочу,
Всегда хочу смотреть в глаза людские,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слышать в мире ветер!
Александр Блок, так мудро и проникновенно умевший говорить о смерти, о том, «как хорошо и вольно умереть», ушел от нас в смерть. Но вечно живым останется с нами образ поэта, который по праву мог сказать о себе:
Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней – всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен нищей красотою
Зыбучих дюн и северных морей.
МАРГАРИТА БОРОДАЕВСКАЯ. О МОИХ ВСТРЕЧАХ С ПИСАТЕЛЯМИ
1-го ноября 1904 года я стала невестой поэта Валериана Бородаевского. Мы предполагали венчаться в начале следующего года, до наступления Великого Поста, но этот следующий год оказался 1905 и начался 9-м января в Петербурге. Затем случилось, что я вышла из гимназии, где занималась с малышами приготовительных классов[7], и едва прошла несколько шагов, как услыхала сильный взрыв в стороне Кремля; оказалось, это был взрыв кареты Великого Князя Сергея Александровича[8]. После этого Валериан не мог получить отпуск для свадьбы. Он только что получил службу в Западном крае, в Петроковской губернии, как фабричный инспектор на участке Пабианице-Згерж. До этого он служил как горный инженер на шахтах в Макеевке и Рутченкове, но жизнь там ему не нравилась, и, думая жениться, он взял работу в более культурных условиях. Но там тоже не так было просто.
29-го апреля наша свадьба состоялась в нашей гимназической церкви. Присутствовала все мои мальчики[9], поднесли мне корзину цветов и оборвали весь низ у моей фаты на память. Преподавателям и друзьям был подан шоколад, а малышам сладкое и апельсины. Потом был обед для родных в Лоскутной гостинице[10], и после него мы с мужем уехали на новое место нашей жизни.
Но ведь это был 1905 год. То тут, то там возникали столкновения рабочих с администрацией. По ночам, громко трубя в трубы, проносилась по улицам «чарна сетина», а днем носились верхом, в кунштуках, «народовцы». Стреляли редко, помахивали саблями. Раз кому-то отрубили кончик носа. Однажды к нам позвонили, и когда я открыла дверь, я увидала, что вся лестница, мы жили на 2-м этаже, забита рабочими. Они вызывали пана инспектора. Муж вышел к ним, а я стояла за дверью, готовая открыть ее, если будет нужно.
Оказалось, что администрация ниточной мануфактуры (филиал петербургской английской) заперла фабрику без предупреждения и выехала. Рабочие просили мужа поехать к ним и открыть ворота. Сделать это было, конечно, нельзя, но муж обещал им узнать, что можно сделать, и назначил им прислать на следующий день депутации в магистрат, чтобы обсудить, что можно сделать, а сам поехал к старшему Фабричному инспектору за советом и книгами. Узнав, что администрация должна была предупредить за две недели и оплатить их, но этого не сделала, муж составил обоснованное прошение в суд, которое рабочие подали и стали ждать результата. Через 2-3 недели дело было назначено к слушанию в Варшаве. Муж выступал от лица рабочих. Оказалось, что, т.к. Фабрику закрыли без предупреждения, то должны платить за всё время простоя, вышло около 30 тысяч. Тогда представитель владельцев предложил рабочим мировую: заплатить половину и открыть Фабрику. Это последнее обещание было то, чего больше всего хотели рабочие, и они согласились. После этого суда рабочие считали мужа их особым приятелем, и если приходил кто-нибудь к нему в неприемный день или часы, оставались ждать его прихода, говоря: «Я же с нитчарни». Значит, примет.
Все эти волнения, а главное, что, не зная польского языка, муж должен был выступать всегда по-русски и часто не мог сказать, что хотел, навело его на мысль сменяться в центральные губернии, а были желающие и из Твери, и из Самары. Самара, Волга прельстили, и обмен состоялся. В это время у нас уже была дочка, родившаяся 8 марта 1906 года[11].
Муж поменялся с другим инспектором, и вот мы в Самаре. Квартира, нанятая по объявлению, нам не понравилась, и мы пошли к новому сослуживцу мужа, давно живущему в Самаре, за советом. Он нам сказал, что на этой же улице, Саратовской, рядом с костелом, есть дом некоего Бострома[12], где он жил с женой и пасынком в хорошей квартире, но жена его умерла[13] и он квартиру сдает. Мы тотчас туда пошли и быстро сговорились с хозяином. Дом оказался во дворе, среди березок, очень приятный.
Постепенно самарцы нам рассказали, что Алексей Аполлонович Бостром был учителем в Саратовской губернии, рядом с имением графа Толстого, уже немолодого, имевшего взрослых дочерей от 1-го брака и молодую жену. Как-то получилось, что молодая жена, оставив 3-х детей, ушла к Вострому, хотя была беременна от мужа. Они уехали в Самару, где купили или построили дом, и там родился А.Н. Толстой, будущий писатель[14].
Учился А.Н. Толстой в Самаре и женился 19-ти лет на Юле Рожанской, дочери известного самарского врача[15]. Я вспомнила, что в той гимназии, где я училась, кончала 8-й класс Юля Рожанская. У них был сын, но умер от менингита 4-х лет[16]. От менингита умерла и жена Бострома в той самой квартире, которую сдали нам.
С Алексеем Аполлоновичем у нас установились сразу дружеские отношения. Вероятно, поэтому, как только А.Н. Толстой приехал к нему, он привел его к нам. Они с мужем моим подолгу разговаривали за чаем. У нас был небольшой сборник стихов А.Н., который он считал слабым и, когда мог, отбирал его у знакомых. Так ушла и от нас его книжечка «Лирика»[17]. Часто были разговоры об охотниках и помещиках. Муж рассказал об одном соседе, который хвалился, что бьет вальдшнепов без промаха. Он до охоты выпивал столько, что птица летящая двоилась перед его тазами и он стрелял в середину между двух и всегда без промаха. А.Н. очень смеялся и потом в одном из ранних рассказов поместил эту историю, слегка изменив.
В июне 1907 года у нас родился сын Димитрий[18]. А ночь после его появления была настоящая воробьиная, белые молнии сверкали поминутно, гремел гром и ветер был ураганный. В такие ночи птицы мечутся, прибиваясь к домам, и пищат. Утром ярко светило солнце, пришла нас с малышом навестить акушерка и взяла с окна градусник в футляре. Взглянув на него с некоторым ужасом, спросила, как я себя чувствую, и очень обрадовалась, что хорошо. Градусник показывал 48°, нагретый самарским солнцем.
Дочка наша ужасно любила братишку, но жили они вместе недолго. В конце 1907 года, как раз когда в Самаре был Толстой, она заболела, оказался менингит. Был приглашен д-р Рожанский[19], очень точно описанный в «Хождении по мукам» – «отец» Даши. Но ни он, ни консилиум других врачей помочь не могли. В то время эту болезнь лечить не умели, и в январе 1908 года наша девочка умерла.
Летом этого же года мы вывезли ее в Курскую губернию, чтобы похоронить около Городищенской церкви, где были похоронены наши родные Воейковы[20]. Если бы мы оставили ее на кладбище в Самаре, ее могилка была бы нам более доступна, чем оказалась впоследствии в деревне, в 40 верстах от железной дороги. В октябре 1908 года мы там же похоронили тетку моей матери[21], 74 лет, оставившую мне в наследство родовое имение Петропавловку, куда мы и переехали жить с нашим Димой.
Предшествующей зимой мы присутствовали в селе Рождествене за Волгой на свадьбе А. А. Бострома, на которой были и его друзья Куроедовы – из тех самых Куроедовых, которые описаны у Аксакова под именем Куролесовых[22]. Сам Куроедов, сверстник Алексея Аполлоновича, был женат на своей племяннице, красивой молодой женщине, а сестра его жены, которую я знала как Маню Куроедову, окончила с моей теткой, моей ровесницей, сестрой моей матери от второго брака деда Мясникова, Екатерининский институт в Москве. Она была маленького роста, некрасивая лицом, но со складной фигуркой. В Самаре она себя вела казачком. Ходила в шароварах и поддевке с наборным поясом, в сапожках и в папахе. На свадьбе Алексея Аполлоновича ей пришлось держать эту папаху подмышкой, чтобы не смущать народ.
Востром описан в «Детстве Никиты» как отец с его охотой скупать неожиданные и ненужные вещи. Во дворе стояла комбинированная молотилка или веялка, никому не нужная, и туда же попала, когда мы увезли свою девочку, ограда с ее могилки. Говорилось, что годится загонять в нее цыплят, которых не было.