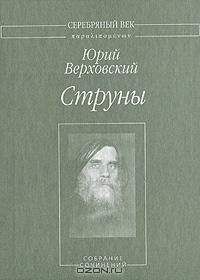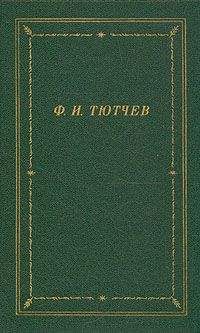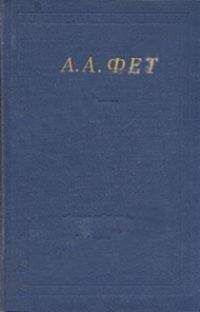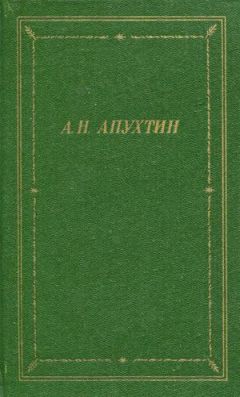Валериан Бородаевский - Посох в цвету: Собрание стихотворений
В том же 1908 году, скоро после похорон бабушки Анфисы Павловны, я поехала в Москву на свадьбу маминой сестры Вари. Она выходила замуж за итальянца-инженера, с которым познакомилась в Неаполе во время экскурсии учительниц. Он стал ей писать, потом приехал в Москву, и их обвенчали у Николы Гнездниковского (храм теперь разрушен). Всё это заняло 2 недели, и я вернулась в Петропавловку, освободив мужа от присмотра за сынишкой.
После Нового 1909 года[23] муж поехал в Петербург, где учился в Горном институте[24] и который любил больше Москвы. Он взял с собой свои стихотворения молодых лет и отдал их напечатать в типографию «Печатное искусство» под заглавием «Страстные свечи»[25]. Когда они были отпечатаны, кажется в количестве 100 шт., он отнес книжку Вяч. Иванову[26], с которым только что познакомился перед этим на заседании Художественной академии при журнале «Аполлон»[27]. Через несколько дней пошел за отзывом. В.И. встретил его похвалой стихам и неодобрением издательству. Велел принести весь тираж к нему на Башню с тем, что он переиздаст книжку в своем издательстве «Оры» и выпустит со своим предисловием и с заглавием «Стихотворения (Элегии, оды, идиллии)». Из прежнего издания у меня осталась одна книжка. Все остальные остались на Башне, и я нигде их потом не видала. Они стали редкостью.
В декабре 1910[28] года мы с Димой и няней переехали в Петербург. Была снята в Ковенском переулке меблированная квартира герольдмейстера Веселкина. Мы ждали третьего ребенка, и он родился 23 декабря, накануне сочельника. Родился днем, сравнительно легко, и я сама не могла понять, почему не было радости, а текли слезы и не хотели кончаться. Причины для них не было. Муж был доволен, я чувствовала себя хорошо, мальчик был крепкий и здоровый, а я плакала и никак не могла перестать. Но всё кончилось наконец.
Муж ходил к Вяч. Иванову, похвалился сыном и просил его в кумовья. На следующий день, 24-го, В.И. сам пришел к нам, вошел ко мне в спальню и поздравил меня с сыном. Вечером принесли для Димы елку, зеленую и душистую, пришел случайно приехавший в Петербург товарищ школьных лет мужа, курянин, Рымаренко Борис, сын фотографа[29]. У них в доме жили мальчики Бородаевские[30], учась в гимназии. Они вместе украшали елку в соседней комнате, я слышала, как радовался Дима при виде игрушек. Потом ужинали, и Борис больше у нас не появлялся, уехал.
Незаметно настал вечер сочельника. Я собралась спать, няня уложила Диму, и вдруг начались стуки в стены и в пол. Спать невозможно. Прислуга побежала узнать, не рубят ли дрова в подвале, но ничего не было. Пришел из кабинета муж и как-то сконфуженно сказал: «Мне показалось, что это не просто стук, я взял календарь и нашел, что сегодня “преподобного епископа Павла”, и мне сразу пришло в голову, что покойная бабушка[31] хотела, чтобы мальчика, если он будет, назвали Павлом. Это она нам напоминает». Я сказала: «Ну что же, если ей хочется, пусть так и будет». Сразу стало тихо, стуки кончились.
Малыша 7-го января окрестили Павлом. Вяч<еслав> не удивился тому, как выбрали имя. Он сам имел понятие о таких потусторонних влияниях. Из церкви Входоерусапимской Знаменской (ее больше, кажется, нет)[32] привезли купель и приехал протоиерей Синайский с дьяконом. Вяч<еслав> спросил у него, можно ли украсить купель живыми розами, и когда получил разрешение, воткнул по бокам купели три живые красные розы. Кумом был В.И.[33], а за мою свекровь[34], которая должна была быть записана кумой, принимала малыша падчерица, а впоследствии жена В.И., Вера[35]. Тут я ее в первый раз увидала.
Вечером был устроен крестильный обед. Были В.И. с Верой, Федор Сологуб[36] с Ан. Ник. Чеботаревской[37], Кузмин[38], Юрий Верховский с женой[39], сын художника Ге[40], знакомый с мужем по Горному институту, с женой, сестрой певицы Забелло[41], жены Врубеля, кузина мужа Миля, Алекс. Толстой, который потребовал, чтобы сварили гречневой каши, надел фартук и, насолив тарелку каши, поднес ее кумовьям, требуя, чтобы они откупились. Было много смеху, Вяч. и Вера положили по золотой пятерке. Потом мы купили крестнику цепочку для креста.
Тут состоялось мое первое знакомство с петербургским писательским миром. Толстой написал новорожденному шутливое стихотворение, которое осталось случайно в деревне, а я помню из него несколько строк: «Что колыбель? Толкни ее ногою. Пусть мать в слезах бежит тебе вослед. Ты, купанный поэтом и судьбою, какие мышцы, как широк твой след».
Мальчик родился накануне Рождества, крестили на другой день Крещенья. В Сретение, 2-го февраля, мы с Верой пошли в церковь Знамения, где я должна была взять очистительную после родов молитву, а Вера понесла Павлика к алтарю, где его принял у нее священник и, как полагается для мальчика, положил его на несколько минут у подножия престола, «воцерковил его» его. Девочек кладут только у царских врат на амвоне.
Через несколько дней, когда я стала выходить, мы с мужем пошли знакомиться к Ивановым. У них полагалось бывать только вечером, т.к. днем В.И., работавший много ночью, спал. Вера была на Раевских курсах, Лидия[42], – ей было 12-13, – в музыкальной школе, а Мар. Мих. Замятина[43], подруга Зиновьевой-Аннибал, которая после ее смерти вела все хозяйственные дела Ивановых на Башне, была в городе по делам. В это время у них жила Анна Рудольфовна Минцлова[44]. Она учила Вяч. И. составлять гороскопы. Они составили гороскоп Павлика, но В. И. сказал, что гороскоп составлен на 22-е, а когда я сказала, что родился он 23-го, сказал, что очень хорошо, что гороскоп составлен неправильно, т.к. он печальный. Я не спросила, а они не сказали, что именно. Но т.к. Павлик умер 10-ти лет, то, вероятно, гороскоп был правильный.
Меня на Башне принимали очень приветливо. Кроме своих, там был всегда М. А. Кузмин. Он часто бывал у нас и очень ласково относился к Диме. Мне в альбом первыми написали стихи Вяч. Ив. и Кузмин. Все поэты, петербургские и приезжие, постоянно бывали на Башне. Бывали серьезные философские и литературные разговоры, а бывали шутки и выдумки. Однажды вечером, когда на Башне был Мейерхольд, вздумали строить слона. Передние ноги и хобот был Мейерхольд, задние – Юрий Верховский. Всё было покрыто серым одеялом или пледом. Под музыку Кузмина слон двигался в тесноте людей и мебели, и все радовались. От времен Зиновьевой-Аннибал был сундук, полный больших кусков разноцветной материи, в которые она любила драпироваться. Иногда вдруг приходило в голову драпировать кого-нибудь из присутствующих. Валерьяна покрыли ярко-синей материей по рисункам библейских фигур, а на голову надели род чалмы со спускающимся на плечо концом из желто-оранжевого вельвета. При его черной бороде это вышло очень эффектно.
Муж бывал на Башне часто, и они бывали у нас. Я бывала там реже. Думала, что от меня интереса мало, т.к. многое, о чем они говорили, было мне чуждо. Однажды при мне были у них Андр. Белый, которого Вяч. звал Гоголенком, с женой Асей Тургеневой[45], тоненькой изящной женщиной. К ней стали приставать, чтобы она встала на голову. Видимо, это был в то время ее номер. Она сняла со стриженых волос резинку, на которую были нанизаны черные бусы, и надела ее на ноги, прижав юбку. Затем легким движением вскинула ноги, опираясь на руки, получилась фигура, напоминающая вазу. Белый подал ей зажженную сигарету, и она простояла, пока докурила[46]. Все восхищались и, кажется, сам Белый больше всех. После этого мы были на лекции Белого о «Гамлете»[47]. Там я познакомилась с Блоком и его женой, но это было в антракте и мимолетно. Больше я их не видала, потому что когда Блок был у мужа с ответным визитом[48], – он ему перед этим отвозил книгу[49], – меня дома не было.
Писательские знакомства очень интересовали мужа. Мы были с ним на шестом или седьмом этаже без лифта у Ремизовых[50] и сидели в кабинетике, увешанном и уставленном домовичками, недотыкомками и т.п. Были, тоже очень высоко, у Чулковых[51], но это знакомство тесно не завязалось. Часто у нас, кроме Ивановых, бывали Кузмин, Верховский и Гумилев[52], читали стихи и муж им читал свои. Однажды зашел А. Толстой звать к себе на следующий вечер. В тот период такие приглашения были постоянно от всех. У меня в то время была шапка, сделанная из бабушкиной собольей муфты. Спереди к ней были приколоты круглой золотой брошкой два перышка марабу как эгрет. Толстой схватил ее в прихожей с зеркала и надел, и так она к нему пошла, такой у него был видой польского магната, прямо этакий Радзивилл [53], и все, кто был у нас, им восхищались, а ему это, конечно, нравилось, и он долго красовался перед зеркалом. Когда мы у него были, познакомились с его женой Софьей Исааковной[54], художницей, с которой он познакомился в Париже. Очень красивая, стройная женщина. Помнится, она в это время ожидала дочь, Марьяну [55]. Обстановка в комнатах была старинная, вывезенная из имения после смерти отца. Помнится, именно в этот раз Юр. Верховский застрял в лифте между этажами и опоздал. Это было 27.11.1910 г. Я помню потому, что бывший там же Гумилев взял мой альбом, который был со мной, и написал в него маленькое стихотворение о моем синем платье[56]. А вслед за ним написал и Верховский. В этот же период 1910 г. написали мне в альбом Белый, но не специально написанное, и Ф. Сологуб, тоже Ремизов написал две странички своим удивительным почерком, а В.В. Розанов 4 очень интересные страницы о лечении запахом цветов. В это же время Вяч. Ив. написал мне чудесное шутливое стихотворение, посвященное «Куме»[57], а Толстой – шутливое «Излияние М. А. Бородаевской о муже ее Валериане», где его пробирал за страсть к собиранию старинных вещей на рынках Петербурга (7.III). А Кузмин (9.III) – привет мне. Всё это было перед отъездом домой, в курские места.