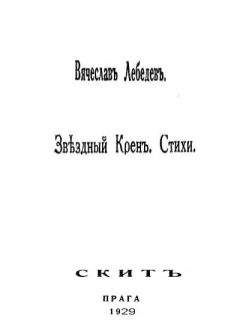Олег Малевич - Поэты пражского «Скита»
«Есть в саду одна дорожка…»
Есть в саду одна дорожка,
там, где ивы за прудом,
где на солнце пляшут мошки,
там, где ежик строит дом.
Про нее никто не знает,
я хожу туда одна,
видеть, как листву сбирает
ежик и его жена.
Там нашла я пень огромный,
под которым вырос гриб.
Там паук, пузатый, сонный,
поселился между лип.
А еще в конце тропинки
раз я видела в траве,
как, неся свои соринки,
заблудился муравей.
Я ношу для птичек крошек
и кормлю их за трудом.
К осени прилежный ежик
выстроит уютный дом.
Михаил СКАЧКОВ*
ОТЪЕЗД
Елене Королевой
Вхожу
и как с ума трогаюсь плавно.
Прощаюсь.
Прощайте несущего жуть
зрака.
И ты, о моя одичавшая мать,
срывавшая с поезда взглядом утопленниц.
И ты,
о залив нетерпений,
в рассоле сжигавший разбои мои.
И лодка —
небесный китаку,
взывающий песнью к дракону.
Из океанских капель взгляды мои
прими и прощай.
НА МИРЫ МОРЕЙ ДУЕТ ВЕТЕР
И УМИРАЕТ.
НА ГУБЫ МОИ ДУЕТ ЖИЗНЬ
И УГАСАЕТ…
ОБЛАЧНЫЕ КОРАБЛИ
Пенанг, где погибали крейсера;
Пенанг, где серебряные облака
наводят мост на остров,
поросший крестами пальм.
Лазорь там моет в море облака;
там так тончайше синеют
в небе мыльные пузыри?
Там
Из недр океана
вздымаются души
погибших кораблей
и облаками,
дымящимися трубами,
плывут над континентом
будить тоску тех,
кто в жизни изменял
зеркальным морям!
«Я смотрю на вас, как умирающий…»
Я смотрю на вас, как умирающий,
я заклинаю вас:
взбираясь на горы, поросшие легендами,
несите признание невинных озер.
Поверьте, им тяжко от ветров,
от слоев из воздуха.
Поймите, там даже крик орла
бьется гривной,
разбивается о дальний купорос.
Там смертный крик оленя
срывает камни верхушек,
там в невиданной дружбе
звездное шоссе и цепь месяцев.
Иначе! О, путешественник!
Войдя в постройку сияний или скал,
вы не поймете,
ПОЧЕМУ ВАС ТЯНЕТ
ГОЛОСОМ ДОСТИГНУТЬ ТОГО,
К ЧЕМУ ТАК НАПРАСНО
ВЗЫВАЮТ РУКИ!
«Так мы встречаемся с улыбкой…»
Так мы встречаемся с улыбкой,
так долго носим любимых,
так долго не называем то,
что не носит имени.
Провожаем до ворот
и долго, прощаясь сочным взглядом,
несем и расплескиваем
тело.
А затем тоскуем и радуемся
слову «любовь»,
что, с другой стороны,
слишком темно
и читается, по крайней мере,
как слово ГИБЕЛЬ.
Воды будто нет,
на дне можно видеть
передвижение рас:
монахи, сельдь и крабы.
И там солнце способно
создавать души из теней,
но стоит только
пролететь по небу
железному ангелу,
как МЫСЛИ моря
прячутся.
«Напрасно! Придите ко мне все…»
Напрасно!
Придите ко мне все,
я вдохну в вас жажду жизни,
я обниму вас и дам есть:
САМОУБИЙЦЫ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
СЛИВЫ
Не у львиц
висят сосцы слив…
Неслась лазорь сквозь листья,
где ветр плутал шелками.
Но те,
но сливы,
гнеТЯ
ТЯжесть,
соками гнули мир.
От сока — три дня в пустыне —
от взора
язык слип
и высох.
Гортань от рта, как замша.
Мать!
ЗЕМЛЯ!
ЖАЖДАЮ!
мякоть пить
СЛИВЬИ СОСЦЫ ДЕВ!
Дмитрий КОБЯКОВ*
НА СТРАГОВЕ[88]
Зачертит насмешливый и оголтелый
коричневых листьев тяжелый взлет,
над дымом аллеи — осенний — провеет
прозрачнейший ветер — летя вперед.
Коричневы листья. И вот пелеринкой,
и вот, как осеннее золото кос,
прольется из сердца — разбитая крынка —
чадящим укором в дыму папирос.
Подумав — не вспомнить — зачем и едва ли
поможет продолжить и вспомнить когда.
Как будто так медленно не нарастали
на горечь разлуки слоями года.
«Мне любовей прискучили смеси…»
Мне любовей прискучили смеси,
равноценность обычных начал;
я на гвоздь свою душу повесил
и баюкал ее по ночам.
Но из мяса кровавого свечи,
черным дымом сердящий свист,
мне не страшны чугунные встречи,
и во мраке я буду чист.
Надоевший ли солнечный разум,
опоясанный крыльями птиц, —
взлет на небо — но только не сразу —
постепенно, как вывих ключиц.
Кто откроет мне жизни двери?
без души — загорится ль свеча?
Я любил, потому что не верил,
и молчаньем своим отвечал.
КЕРАМИКА[89]
Нет, ни одной строки — доколе
моя упорная душа
со звездой карты не отколет
и в ночь не опрокинет шар.
Нет, никогда — доколе профиль
не выжжется в моем мозгу
и, отразившись в черном кофе,
качнется — сгинув в какаду.
И только в прутьях клетки старой
хохол блеснет и острый клюв —
над чашкой — золотистым паром
когтисто лапу протянув.
В почтовой конторе и сегодня так сини
глаза продавщицы, но марок кайма,
но белый конверт, как за окнами иней,
и сторож, стуча деревяшкой, хромал.
По стенам — пестры — расписанья о лете,
о разных курортах, о ваннах, и там
крученых, пеньковых и шелковых петель
бездумье опутает по городам.
И так, не сегодня ли, завтра, но все же
зачем и когда и придет ли ответ,
когда такой терпкой гримасою прожил
всю жизнь — ненужных и скомканных смет.
Но вот перед тем, как захлопнуть окошко,
— Пора, уходите, прием до шести, —
мелькнет продавщица и простенькой брошкой
как будто насмешливо бросит — прости.
Как сторож, сметая обрывки в корзину,
стучит деревяшкой, и иней в окне.
Не вспомню, зачем и куда я закинул
письмо заказное и, кажется, мне…
В таверне, в трюмо, на столах и эстраде —
где в облаке дыма краснеет стекло,
в стекле отражаясь, я медленно гладил
залитую скатерть и призрачный стол.
И дергаясь в такт под ударами бубна,
рвался через дым, через звуки туда,
где медленно плыло норвежское судно —
на плоских обоях — в пятнистую даль.
Но крепкие руки у пьяных матросов.
И в щепы, и с криком летит табурет.
— Смотри, я на мертвое судно забросил
бочонок с водою и ящик галет.
Увидишь — не хватит; не хватит, не хватит…
Я с ужасом пьяным схватился за стул.
— Поверь мне — и, скрипнув зубами, с проклятьем
с разбегу на стену и в трюм сиганул.
И все разорвалось. И в треске, и в искрах
летят обгоревшие струны, смычки.
Но голос кричит сквозь соленые брызги:
— Крепчает, держись и канат закрепи!
Когда-нибудь кто-нибудь это расскажет.
Железным гвоздем на стене
начертаны знаки в известке и саже —
но смысл непонятен и нем.
И след на печи, на гвозде — где качались
подтяжки — и где он висел,
и где, захлебнувшись, скрипели ночами
известка, и сажа, и мел, —
И где шеламутил — щемящий и серый —
и юркий такой домовой, —
смеялся, кусаясь, и пальцами мерил,
покуда он дергал ногой.
На печке отдушины желтая кнопка —
и длинная тень на стене —
и тень домового — скользящая робко —
подальше от замерших тел.
Мне слово нежное, как бабочкины пыльца,
как трепет солнечный загнувшихся ресниц,
как будто слышится — когда не спишь и снится
далекий профиль позабытых лиц.
Глаза озерами — солеными глотками
пью мертвым выдохом, — окаменев во сне,
когда огромный бирюзовый камень
в глуби озер накапливает гнев.
Чужой любви — и непохожий сколок,
глаза — как проруби, болотного окна
опаснее. И мысли частоколом
не оградишь и не поймешь — прогнав.
И слово нежное, как лживая ограда,
как лживый пузырек, — поднявшись из глубин —
болотным насыхом — как этим сердцем прядал —
глаза озерами, — их камень полюбив.
Мне сегодня с грозой не тревожится,
с мокрым грохотом летнего дня.
На земле запупырилась кожица
под дождем, как копытом коня.
И на листьях — оранжевым конусом, —
расширяя ненужную боль,
гнулись радугой желтые полосы
солнца — в каплях прозрачных неволь.
Тогда полдня струящийся занавес
я менял на янтарный закат,
и насмешливо тополи кланялись,
окружавшие брызжущий сад.
Не пьянящим ли воздухом травится
след в душе и широкой груди —
когда вечером летней красавице
вместе с звездами дымно кадил.
Фонарных решеток узоры на стенах,
пестрят закоптелые своды таверн,
и красны блестящие камни ступенек,
ведущие к устью канала Марен.
Упругие ряби живого агата
податливо брызжут под черным веслом.
«В таверну, в таверну! Сегодня богатым
и щедрым, signori[90], я буду послом!».
Спешащая тень остроносой гондолы
мелькает на зелени мокнущих стен,
и капает гулко сочащийся холод —
замерзшая кровь обессилевших вен.
На черной воде окровавленный кокон —
краснеет, как сгусток крови, полоса,
и светят гондоле из огненных окон
таверны раскрытой ночные глаза.
Мне ль для тебя — сказать, так будет жутко.
Очнувшись в четкости запнувшихся минут, —
твой мутный сон — в прорытых промежутках
засыпать строфами — горою черных руд.
Иди, иди! Проснешься ли от боли,
от диких выкриков алтайских колдунов —
в парижских улицах, и в этом я не волен,
скалистый кряж, покрытый лесом снов.
И пусть покажется средь острошпицых кровель,
в покрытых лунной чешуей стенах —
твой дым костра, во дни алтайских ловель —
в парижских улицах — разметывает прах.
Мостков деревянных скользящая сырость,
кабинок коричневых черные рты.
Волна набежала на пляж и зарылась
в песок солнценосной и желтой икры.
Янтарные смолы прозрачны на досках,
и душно в бутылочной зелени вод.
У самого берега хлюпает плоско
залитый медузами тонущий плот.
Внизу серебрятся в корзинах макрели,
блестящие солью своей чешуи,
и медленно плещется светлая зелень —
пронзенная солнцем — далекая ширь.
Сны — буревестники грядущих дней,
в них сила темная, в них черный пламень
сверкает заревом иных огней —
то встреч с забытыми, то именами.
И явь прозрачная чужих оскомин,
и терпкий привкус в ней — чужой любви,
чей рот пьянящий — нет — чей взгляд нескромен
во сне и в яви мне — о чем просил?
Мы полусонные, мы только дети —
во сне мы любим всех, но наяву
одну из тысячи — и не отметим —
и не откликнется, и не зову.
Но только в комнате на третьем часе,
когда навалится кошмар на грудь, —
мы виноватые, мы перекрасим
в душе разлуки все — на слово — путь.
На сцену, на сцену — момент — но и только!
Познав раздвоенности белых ночей
так бешено мчаться за призрачной ролькой,
для этих — любимейших — всех и ничей.
И круг замыкая сверкающей рампой,
под занавес спущенный хлещет партер,
сыграть, и в последний, как будто в эстампе
застыв, — изумить простотою манер.
А дальше не надо, а дальше любимей,
нежнее, спокойнее и горячей
для тех, кто зачертит из огненных линий
мой образ единственный — всех и ничей.
Вот — выжатый день
стелет мокрый покров.
Крот роет тень —
мост через ночи ров.
Гам заскоруз и стих,
рыхлой осел стеной,
там через звездный вихрь
спину согнул другой.
Врет, кто из жизни сна
делает день забот, —
сот омертвелых дна
трогать не должен тот.
Мне через сон — в садок —
рыбой ленивой жить.
Гнев — это плеснь богов,
радость — как волчья сыть.
От изумленья тихо ахнул —
так выросла, ужель…
И садом в комнате запахло
от кончиков ножей.
Но фрукты на столе лиловей,
краснее и еще
янтарных виноградин брови
шепнули — не прощен.
Но только памяти пробел,
как в окнах клочья сада,
мне шалью душною надел,
как поцелуй — в награду.
Не виски ль с содой? Иль ножей
проржавленных нам пару?
Дуэль?! На сколько этажей
проклятие попало!
Удар повиснул на стене,
застряв между кирпичин.
Ах! станет ли душа синей,
когда все безразлично…
И так испуганно ушла,
а сад весь искалечен.
В наследство мне остался шрам
и память губ и плеч ее.
Мария МЫСЛИНСКАЯ*