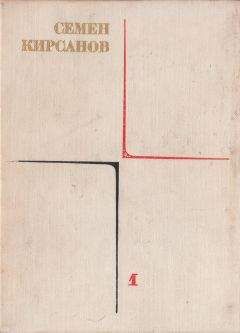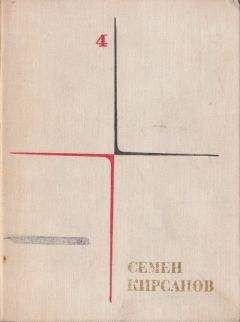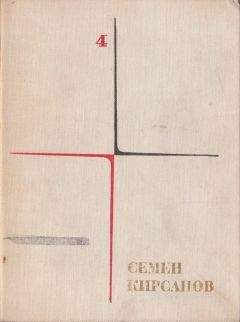Семен Кирсанов - Лирические произведения
РУССКИЙ МУЗЕЙ
Сегодня
я хожу
по Русскому музею,
там
на полотнах Ге
видения сизеют;
желтеет
Левитан
и зеленеет
Шишкин, —
вот-вот и упадут
с мохнатых елей
шишки.
Пройдешь
Рублевский зал,
побудешь при Петре ты,
потом
тебя пленят
Тропинина портреты,
где с лентой и звездой
сидит
вельможа старый,
девица со свечой
и юноша с гитарой.
Нас в Царское Село
Боровиковский
вводит;
прозрачно и светло
он тонкой кистью
водит…
Как дверь
из зала в сад,
распахнута картина:
в салопе
и чепце —
сама Екатерина.
И чуть зеленый фон
с дубравами
в тумане,
и жемчуга́ в ушах
у госпожи
в тюрбане.
И показалось мне
при этих
важных дамах,
что галерея — мы,
а зрители-то
в рамах!
Брезгливые
на нас
из рам глядят вельможи,
статс-дама
щурит глаз
из золоченой ложи,
графини
и князья
лорнетами нас мерят,
но, видимо,
они
своим глазам не верят!
И как понять сии
ковбойки,
куртки,
блузки —
столь вольный разговор,
и — фи! —
не по-французски?..
Что смыслят в нас цари?
Как разберутся графы
в глубинах
наших глаз
и наших биографий?
Попробуй
в те года
портреты наши выставь, —
для них
мы —
что для нас
холсты абстракционистов.
И ржевского купца
побагровели
веки —
не может он понять,
что мы
за человеки!
Я к девушке иду,
не жемчугом
венча́нной,
ее среди снопов
писал
Венецианов.
На жатве,
посреди
прокошенных дорожек,
в венце из русых кос,
босая,
без сережек.
Он написал глаза
большие,
голубые,
чтобы она могла
понять
глаза любые.
Знакома
и мила
мне черточкою каждой.
А рядом —
узкий серп
(без молота пока что).
И правда —
смотрит так
крестьянка крепостная,
как будто
видя нас,
как будто
вспоминая…
Она
в нас признает
своих парней и девок,
гадавших
столько с ней
на лавках посиделок,
кудрявых женихов,
затерянных в солдатах,
и братьев,
и зятьев,
в ту пору бородатых…
Сама еще —
дитя,
а трудовые руки.
Но знает,
что придут
к ней
любоваться
внуки.
В ПЕТЕРГОФЕ
Забил
Петродворец
из всех своих фонтанов.
Воды
хоть отбавляй
у золотых титанов.
Им заменяют мысль,
слова
и поцелуи —
летящие из уст
сверкающие струи.
Когда дерет Самсон
скульптуру
львиной пасти,
ревет водопровод,
как публика
от страсти.
Вот
золотой атлет,
он импозантен очень!
Что ж,
лучше человек,
когда он позолочен?
Я думаю,
что нет.
Не мучься,
не досадуй.
Завидовать грешно
фонтанной жизни
статуй.
ЗОЛОТОЙ КОРАБЛЬ
На золотой игле —
кораблик золотой.
Лет
двести пятьдесят
стоит он над водой.
На полных парусах
уходит в море флот.
Лишь этот
никуда
кораблик не плывет.
Открыли острова
и Берингов пролив,
других
на берега
выбрасывал прилив,
другие
подошли
и к Северной Земле,
и только он
один
ни с места — на игле.
И столько лет
стоять,
и видеть чей-то путь,
и по такой реке
не плыть
и не тонуть…
Но это ничего.
Кораблик
терпелив.
Смирился он,
что жил,
морей не переплыв.
А я вот
за него
испытываю грусть,
корабликом
таким
я сам себе кажусь —
без рейсов и морей,
поставленным
на шпиль,
но позолотой всей
осыпавшимся
в пыль…
Бывает, что и грусть…
Но ты не прав,
поэт,
кораблик-то пришел
к нам
из Петровых лет
и Новую Страну
открыл
у невских вод,
и дальше — в добрый путь
кораблик
поплывет.
По компасу звезды
плыви
в вечерней мгле,
кораблик
золотой
на золотой игле!
ЛЬВЫ И СФИНКСЫ
Пишу тебе одной,
одной
во всей стране,
какой мне снится сон,
что
думается мне.
Два сфинкса
над рекой.
Я не скажу, что груб
гранит
их нежных глаз,
их миловидных губ.
На цоколе
слова:
«Привезены из Фив».
А кто-то
проходил,
хвосты им поотбив.
Обиделись бы! Нет.
Сфинкс,
видно, не гордец.
Загадка на губах,
и никаких
сердец.
Перед подъездом спят
два
равнодушных льва,
у каждого — в кудрях
в судейских
голова.
Когда другим дано
метаться
и рычать,
готовы эти львы
обид
не замечать.
И разве в этом нет
особенной
судьбы, —
о, статуи Любви,
о, каменные львы!
О, кони,
коих Клодт
поставил на дыбы,
балконы
на плечах
держащие рабы!
О, божества
без рук,
положенных плечу, —
в одном я только
вам
завидовать хочу.
Обидные пинки,
насмешливую
брань,
железным молотком
отколотую
грань —
вы сносите!
Пускай
и жалят вас и злят —
не дрогнет
ваша грудь,
не повлажнеет взгляд.
А я —
ни лев, ни сфинкс,
и от твоих обид
во мне
все говорит,
все стонет,
все болит…
ИЗ ФАУСТА