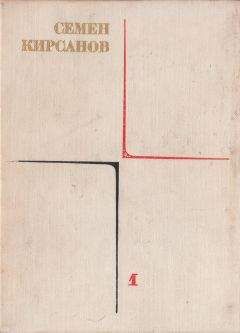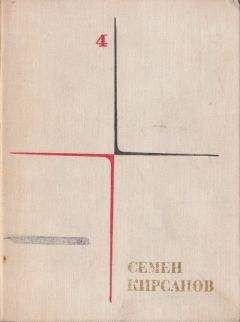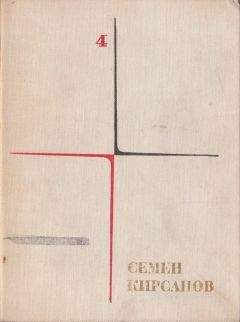Семен Кирсанов - Лирические произведения
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕТРАДЬ (1957–1960)
ЭТОТ ГОРОД
Как Петербург глубок!
Он Пушкин,
он Жуковский.
Он Лермонтов,
он Блок,
он ранний Маяковский.
Он Врубель.
Холст его
павлинами заляпан.
Он Горький.
У него
в гостях сидит Шаляпин.
И он же —
чуть заря —
задумчив и нахмурен.
А мысль — «убить царя»
сверлит, —
и он Халтурин.
Не статуи в садах,
не пики,
не гробницы.
Он человек всегда —
он Пирогов
в больнице.
Он Алексеев Петр.
Его хватают,
судят.
Он на суде встает
с пророчеством —
что будет!
Он — отдаленный гул
толп
с Выборгской и Охты.
Он — прачка на снегу,
кровь льется
из-под кофты.
И с прищуром
на свет
уже как Ленин глянув,
он молодой студент
за книгою —
Ульянов.
Он трудится на весь
рабочий мир
огромный —
в Большом Казачьем,
здесь,
в музейном этом доме,
где черновик
борьбы,
где корректуры правка,
где Петербург — и был
как в будущее
явка.
А в будущем — не сон,
а штурмом
взятый Зимний.
Красногвардеец он,
бессмертный
и без имени.
Седой от всех потерь
он человек,
но вечен.
Он Ленинград теперь —
строг,
прост
и человечен.
НОЧНЫЕ УЛИЦЫ
Когда
перед звездой,
мерцающею скупо,
чернеет
золотой
Исаакиевский купол
и властвуют
одни
кронштейны с фонарями, —
я выхожу
к Неве,
к дворцовой панораме…
Но
пушкинской строфой
тут все уже воспето:
громады
темные
вдоль Невского проспекта,
тень
золотой иглы,
секиры на ограде…
И что
сказать еще
о спящем Ленинграде?
На Троицком мосту
он виден в небе мглистом,
как прошлого
корабль,
как будущего
пристань…
Что город думает?
О чем его забота?
Как сон?
Как дышит грудь
Балтийского завода?
О чем задумались
четыре
исполина,
что держат Эрмитаж
на онемевших
спинах?
О белой женщине
на набережной сонной,
сидящей
под ночной
ростральною колонной?
Что Невский говорит,
кварталы
удлиняя?
Не снится ли ему
Дорога
Ледяная?
Растаяла?..
Но сон
тревожит мостовую —
проспекту
не забыть
подругу фронтовую…
А не болят ли в ночь
под вывеской
нарядов
заделанные швы
пробоин
от снарядов?
Три раза
бьют часы
на каланче старинной.
Что чувствуют
сейчас
зеркальные витрины?
Опять
мешки с песком
блокадные им снятся,
хотя
у кренделей
пирожные теснятся…
А булки думают
о том,
что были б рады
испечься не теперь,
а в голый год
блокады.
На набережной —
тишь…
Не отрывая взора,
как набожный,
стою
у крейсера «Аврора».
Что снится кораблю?
Да тема сна
все та же —
скучает о своем
октябрьском
экипаже.
Пороховым нутром,
сердцами
пушек старых
грустит о моряках,
о красных комиссарах…
А как
мои шаги?
Вокруг домов и мимо?
И рядом
снова нет
шагов моей любимой?
Но город
будто мне:
«Отчаиваться рано.
И у меня была
здесь
на асфальте
рана…»
Светлеешь,
Ленинград?
Цветы росой намокли.
Я здесь
не делегат,
и не турист с биноклем,
и не знаток стекла,
картин
или жемчужин.
Я просто человек,
которому
ты нужен.
И ты —
как человек,
готовым и за по́лночь
всей
красотой своей
прийти ко мне на помощь,
великой
красотой
хлебнувших горя улиц,
светлеющих
от крыш,
где статуи проснулись.
КАРИАТИДЫ
Есть статуи
среди
стоящих в Ленинграде:
извилистых
бород
мифические пряди,
русалочьи тела
скульптурных
полуженщин.
За них отдать бы жизнь! —
так облик их
божествен.
Но это не Петры,
не Павлы
и не Анны.
Рабы дворцовых стен
безвластны,
безымянны.
Они стоят не в честь
заслуг или талантов —
тут
труд кариатид,
тут
каторга атлантов.
Незрячи
их глаза,
опущенные книзу.
Их служба —
подпирать
столичные карнизы.
Не смотрят на ступни
сих статуй
старожилы.
Но как напряжены
их мраморные
жилы!
Как давят этажи!
Как пот течет
по скулам!
В поэмах им бы жить —
Гераклам
и Микулам.
Но тут
они — ничто.
Никто о них не скажет.
На них —
искусствовед
и взглядом не покажет.
А что сказать?
Рабы,
чьи головы наклонны —
чтобы нести
столбы,
чтобы держать
балконы;
держать, держать, держать
колонны,
стены,
своды, —
без прав,
без слов,
без слез,
без будущей свободы;
поддерживать
дворцы
при бронзовой ограде,
любовников
держать
на белой балюстраде;
паркетные полы
терпеть
с толпой придворной,
удары каблуков
переносить
покорно;
бессильные —
хоть раз
пошевельнув плечами,
заколебать
дворцы
с их белыми ночами!
Вот
Памятник Труду,
который создал скульптор
так истинно,
и так
безжалостно,
так скупо! —
труду
всех крепостных,
всех каторжников мира,
и только
как деталь
модерна и ампира!
Сюда
пригнали их
со всех каменоломен.
Как тяжко им
стоять,
как груз домов огромен!
От муки
вековой
обшелушились лица,
и дождь,
как скользкий пот,
по животам струится.
Но так как не нужны
для этой службы
ноги —
их скульптор завершил
витком
на полдороге.
Кто
милосердным был
к страдалице распятой?
Кто понял
боль фигур?
Кто слышал
стоны статуй?
Кто понял?
А живой
услышан был и понят?
Молчит
Санктъ-Петербургъ,
когда Россiя стонет.
Но разве
по ночам
не изменялись позы
и в пасмурные
дни
не слышались угрозы?
И каменный атлант
не нарушал
наклона,
чтоб хоть лепной акант
упал
с угла балкона?
Да, страшно было вам
в метели
и в туманы —
о, медные Петры,
о, мраморные Анны!
РЕШЕТКИ