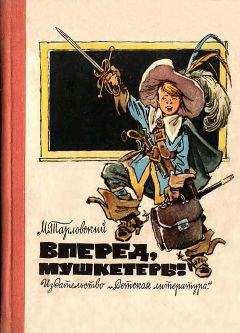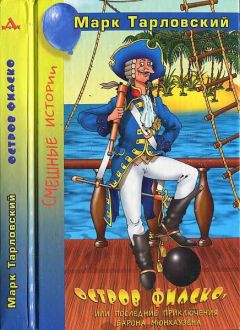Марк Тарловский - Молчаливый полет
12 июня 1927
Памяти Иннокентия Анненского[194]
Найдется ль рука, чтобы лиру
В тебе так же тихо качнуть,
И миру, желанному миру,
Тебя, мое сердце, вернуть?
И. Анненский. Лира часов.
Написано незадолго до смерти,
происшедшей на подъезде Царскосельского вокзала
…И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.
Н. Гумилев. Памяти Анненского
Я Вас не знал и знать не мог,
О рыцарь Пушкинских традиций,
Носитель ордена в петлице
И Царскосельский педагог!
Но разрешите Вам подать
Мою участливую руку
В непоправимую разлуку,
В безоблачную благодать…
Когда трагический вокзал
— Дорога в русскую Пальмиру —
Парализованную лиру
Бессрочной ссылкой наказал,
Ваш непутевый ученик,
С тревожным гимном музе Вашей,
Как лист, безвременно упавший,
На ржавом гравии поник.
В делах поэзии и драк
Он был, как Лермонтов, неистов
И, как другой (из лицеистов),
Самодержавию не враг.
Их всех томило на плече
Ярмо отличий в ссыльной дымке,
И каждый пал на поединке
В пороховом параличе.
Но неизменен царскосел,
Одетый в статские мундиры,
В набор армейского задиры
Иль в переделанный камзол!
И чем — скажите — фонари
Екатерининского парка
Светлее сального огарка
В тоске Михайловской зари? —
Поныне ссыльная семья
Посильно борется со скукой,
И слава круговой порукой
Плывет над всеми четырьмя…
Ну что ж? — в мешке ли ямщика
Или в вагоне полосатом —
Беги, мой стих, за адресатом
На Юг, на Север и в ЧеКа!
Мне остается робкий зов,
Певучий адрес на конверте
И верная мечта о смерти
Остановившихся часов…
17 августа 1927
1914[195]
Справлять боевые походы
На рельсах, пешком и верхом,
Видению мнимой свободы
Служить подневольным грехом,
А после — скрывать под тулупом
Покрытые ржой обшлага
И плакать над стынущим трупом
Убитого мною врага…
21 августа 1927
Разговор[196]
— Лгать не надо, лгать нехорошо!
Кто тебя учил, дружок?
Папа купит мальчику ружье
И охотничий рожок… —
Ах, как трудно вдовому в беде
Истину в груди сжимать,
Если сын выпытывает, где,
И когда вернется мать…
— Мать вернется: скрипнет колесо,
Остановится возок… —
«Лгать не надо, лгать нехолосо!
Кто тебя уцил, длужок?»
22 августа 1927
Мираж[197]
В горизонт существованья
Вросший пальмою мираж,
Что он? — жажда караванья
Или страж надежный наш?
Только вымысел ли голый,
Наши сказки и стихи,
Или это протоколы
Заседающих стихий?
Протоколы. Аккуратно,
Как писец, как секретарь,
Я их вел неоднократно,
Вел сегодня, вел и встарь. —
Под диктовку первых ливней,
Первых рушащихся скал
Я на мамонтовом бивне
Первый лозунг высекал;
Я выдавливал на глине
Влажных вавилонских плит
Повелительные клинья
Славословий и молитв;
Я на нильском обелиске
И на пресс-папье гробниц
Оставлял свои расписки
В виде змеевидных птиц;
Брызгами китайской туши
В книгу рисовой мечты
Я врисовывал петушьи
И драконовы хвосты…
На папирусы, на шкуры,
На бумагу всех времен
Отлагаются фигуры
Поэтических письмен.
Кто ж писец и кто писатель?
Мир ли — прах иль греза — прах?
Кто из двух законодатель,
Кто за кем в секретарях? —
Наша жажда караванья
Наш благонадежный страж —
В горизонт существованья
Вросший пальмою мираж!
31 августа 1927
Контрреволюция[198]
Не как воры вора старшого,
Не по приговору Чека,
Обезглавили Пугачева,
Расторопного мужика.
За мятежную Русь радея,
Белым дымом яркой свечи
Проводили душу злодея
Сердобольные палачи —
И болтается по низовью,
В Астраханские острова,
Обливающаяся кровью
Большевицкая голова.
7 сентября 1927
О лебеде (В порядке постановки вопроса)[199]
И зимою, и летом
Мы смотрим картины
С лебединым балетом
В болоте рутины.
Не на прочной земле ведь,
Лишь в лепете бреда —
Умирающий лебедь
И белая Леда!
До какого предела
Вам гнуть, балерины,
Распушенного тела
Лебяжьи перины,
Лебеденышем нежным
Рядиться в уборной
Под пером белоснежным
И ряской озерной?
Ведь озерная ряска
Беспочвенно-зыбка
И эстетная пляска —
Сплошная ошибка.
Примадонны и леди
Бонтонного танца,
Ваша Леда — наследье,
Пройдохи-гишпанца!
Посмотрите на птицу,
За службу которой
Не одну танцовщицу
Сочли Терпсихорой:
За гусыней, вразвалку,
Как поп неуклюжий,
Что, кадя катафалку,
Бредет через лужи,
С грузом рыбных закусок
И с грязью на перьях,
Лебединый огузок
Выходит на берег…
Балетмейстер гусиный
У птичницы-Марфы,
Что ему клавесины
И что ему арфы?
Не пора ли давно нам,
Ценителям граций,
С театральным каноном
Поспорить, хоть вкратце?
Не пора ли, красотки,
Балетные феи,
Поучиться чечетке
У птиц порезвее,
Перенять (без опаски)
На горных увалах
Журавлиные пляски
В глиссе небывалых
И от аистов гордых
Их поступью верной
Надышаться в аккордах
Равнины безмерной?
Предоставьте русалкам
Влюбляться в пернатых
И ловить полушалком
Гусей неженатых!
Ноги лебедя — плети.
Чтоб нравится многим,
Подражайте в балете
Одним стройноногим,
Сухопутным и бодрым,
Не тем, что на ластах. —
Наш привет — крутобедрым!
Мы — за голенастых!
13 сентября 1927
Черная кошка[200]
Мягко ступают женские боты,
Чавкает пара мужских сапог,
Черная кошка тенью заботы
Режет дорогу прямо и вбок.
Брысь из-под ног, вражья угода!
Голос тревоги глух и певуч —
Брысь! — и о злой судьбе пешехода
С черного хода нам промяучь!
18 октября 1927
Мы[201]
Мы все волы — и я, и ты, и он, —
Мы, как волы, влечем свои телеги,
И скрипом скреп и гулами элегий
Земной закат, как жатва, напоен.
Афины с нами брали Илион,
И с нами Ксеркс делил свои ночлеги,
Нас Кесарь вел, и мы ему коллеги,
Нас труд призвал, и мы ему закон.
Пока в поту и с ревностью тупою
Мы клоним путь к ночному водопою,
Пусть грабит нас погонщик наш скупой.
Мы поведем росистыми ноздрями,
Мы шевельнем смолистою губой
И промолчим, как исповедь во храме.
27 декабря 1927