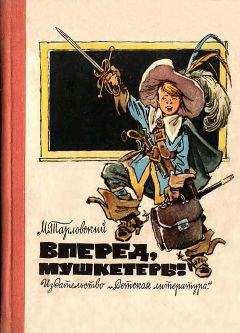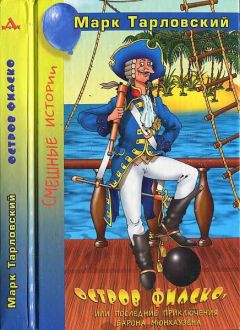Марк Тарловский - Молчаливый полет
9 ноября 1926
Военные грезы[183]
Не в походе, не в казарме я,
Паинька и белорученька, —
Только грезится мне армия,
Alma mater подпоручика…
Перестрелянные дочиста,
Прут юнцы неугомонные
Из полка Его Высочества
В Первую Краснознаменную!
Не кокарды идиотские —
Пялим звезды мы на головы,
Мне в декретах снятся Троцкие,
И в реляциях — Ермоловы.
Не беда, что всё навыворот:
Краснобаи и балакири,
Сны рисуют ротный пригород,
Где раскинул мы лагери.
Утром, пешие и конники,
Ходим Ваньками ряженные,
Вечером ряды гармоники
Слушаем, завороженные.
В праздничек бабец хорошенький
Ждет бойца за подворотнею, —
Всю неделю — ничегошеньки,
Вся журьба — в постель субботнюю!..
…………………………………
Не в казарме, не в походе я,
Белорученька и паинька,
Войны — выдумка бесплодия,
Мать их — царственная паника.
Есть в кавалерийской музыке
Барабанный пыл баталии —
Он закручивает усики
И подтягивает талии
Это с ним амурит улица,
С ним тоскуют души жителей:
Трусят, мнутся, жмутся, жмурятся
И не узнают спасителей!
12 ноября 1926
Пояс[184]
Твой пояс девически-туг,
Но, чуткая к милому звуку,
Душа отзовется на стук
И друга узнает по стуку.
Замок недостаточно строг,
Соблазну и я не перечу,
И сердце спешит на порог —
Залетному сердцу навстречу!
18 ноября 1926
Диван[185]
Как большие очковые змеи,
Мы сидим на диване упругом
И, от сдержанной страсти чумея,
Зачарованы друг перед другом.
Золотые пружины в диване,
Как зажатые в кольца питоны,
Предаются волшебной нирване,
Издают заглушенные стоны.
Шум окружностей, ужас мышиный,
Дрожь минут в циферблатной спирали
И потайно — тугие пружины
На расстроенных струнах рояли…
Но наступит и лопнет мгновенье,
Как терпенье в усталом факире, —
Разовьются чешуями звенья,
И попадают кобрами гири,
Остановится маятник рваный,
В позабытое прошлое спятя,
Нас ударит питон поддиванный
И подбросит друг другу в объятья —
И в часах, и в рояли, и в шали,
Среди струн, среди рук перевитых,
Я послушаю песню о жале
Поцелуев твоих ядовитых.
10 декабря 1926
Первый полет[186]
Неизвестной попутчице
Под рокот винта
Воздушной машины
Дымятся цвета
И тают аршины.
Рывком из травы —
Впервые! Впервые! —
Покинуты рвы
И тропы кривые.
Впервые, до слез,
Мучительно-зябки
Ослабших колес
Поджатые лапки.
И счастьем томим
Сей баловень славный,
Что мною самим
Был только недавно.
— Послушай же, ты,
Присвоивший с бою
Мечты и черты,
Носимые мною!
Ты продал оплот
И зелень на сквере
За первый полет
В пустой атмосфере.
Ты счастлив ли здесь,
Где бьется тревога.
В расплату за спесь
Бескрылого бога?
Ты рад ли, дробя
Прозрачные вьюги? —
Его и себя
Спросил я в испуге.
И светлый двойник,
Певуч и неведом,
Мне в уши проник
Беззвучным ответом:
«Ах, счастливы ль те,
Кто слушают сказки
И верят мечте
За звуки и краски?..
Я верю мечтам,
Но всё же мне жалок
Разостланный там
Земной полушалок…
Под ласковый гром
Ковра-самолета
Ложатся ковром
Леса и болота.
Расписанный сплошь,
Расписанный густо,
Ковер этот — ложь
И прихоть искусство.
А почва планет,
А горы и реки —
Их не было, нет,
Не будет вовеки.
Их злой глубине
Тогда лишь поверю,
Когда на спине
Паденье измерю,
В пыли и в крови,
На красочной ткани
С узором любви
И вечных исканий».
Тогда…а пока —
Есть только вожатый,
Есть только бока,
Что стенками сжаты,
Контакт красоты
Со взглядом и ядом,
Верста высоты
И женщина рядом!
<1927>
Процесс обмена (гл. II Марксова «Капитала»)[187]
В сырой землянке въедливая гарь,
Булыжник дикий и оленьи шкуры,
Творит замысловатые фигуры
Из бивня мамонтового дикарь.
Века идут — и вот теперь, как встарь,
Его потомок, парень белокурый,
Идет на рынок, где волы и куры,
Где свой товар распродает кустарь.
Товаров нераспроданные груды
Лежат, как нерасплавленные руды.
Но пламя золота и серебра
Коснется их, безжалостно расплавит
И горький пот в обличии добра
Хозяйской прихоти служить заставит.
В ночь с 13 на 14 января 1927
Баллада о польском после[188]
Едет в Московию польский посол,
— Вот они, перья берета! —
Тысяча злотых — один камзол
И десять тысяч — карета.
Ждет на границе стрелецкий патруль,
Крестится польская свита.
С богом же, рыцари, славься, круль,
Не сгинет Жечь Посполита!
В горьком дыму подорожных костров,
В городе матерно-женском
Братские шляхи и дом Петров
Ляхи найдут под Смоленском.
Бьют православные в колокола,
Настежь открыты заставы —
Эх, перелетные сокола,
Что ж это вы, да куда вы?
Поездом гости въезжают во двор,
Взгляды кидают косые,
Русским в подарок — с ременных свор
Злобные рвутся борзые.
Рыцарь жеманный с румяной женой,
С чинно подвинченной свитой,
Щирую соль и хлеб аржаной
Пробуй в Москве грановитой!
Царь не жалеет уйти от руля,
Скачет в столицу с залива —
Честь и почет слуге короля,
Польского же особливо.
Двор. Аудиенция. Гость разодет.
Свитки верительных грамот.
Круль обещает нейтралитет,
Коли баталии грянут.
Круль уверяет, что царь ему брат,
Брата, быть может, милее…
Царь отвечает — «я очень рад,
Едемте на ассамблею!»
Гостю навстречу гремит полонез,
Гость не купеческий парень —
Плавному танцу, как баронесс,
Учит он русских боярынь.
Славный танцмейстер! — он куплен Петром,
Он недурная покупка, —
Петр смеется и дымный ром
Тянет лениво из кубка.
Гости скользят под веселый мотив,
Царь отбивает ногою,
Хриплый чубук рукой обхватив,
Кубок сжимая другою.
Бал продолжается сотни ночей,
Пляшут и пьют домочадцы,
Губы бессмертны у трубачей,
Звуки не в силах скончаться…
Мчатся столетья…По-прежнему зол,
Склочник и льстец криворотый,
Плавно хромая, тот же посол
Те же танцует фокстроты.
Всё как и было — владенья Москвы
Необозримы, как прежде,
Разве что пограничные швы
Втиснуты глубже и резче.
Едет с экспрессом чужой дипломат,
— Мы ли не гостеприимны? —
В честь иноземцам у нас гремят
Разнообразные гимны.
Царь не знакомится с новым послом,
Царь не хлопочет над шлюпкой —
Призрак остался. Машет веслом,
Кубком и дымною трубкой.
Ею дымит он и пьет из него
— Знайте, мол, шкиперов грубых, —
Но не видно его самого
В дымно-расплывчатых клубах.
Пан президент! Пожалейте посла!
— Разве не видите сами? —
Бурная хлябь его унесла
С бешеными парусами.
Грозным пожаром бунтующих сёл
Польска казна разогрета —
Тысяча злотых один камзол
И десять тысяч карета!
22–23 января 1927