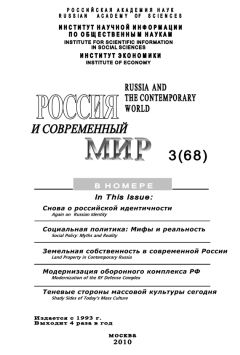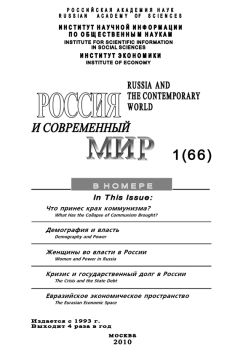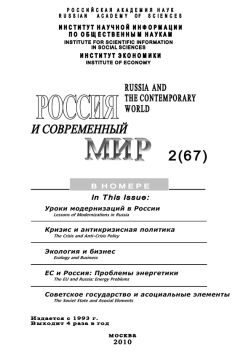Григорий Ширман - Зазвездный зов. Стихотворения и поэмы
"Найду ли я тот путь неуловимый..."
Николаю Минаеву
Найду ли я тот путь неуловимый,
Извилисто ведущий в ту страну,
Куда стремились люди в старину,
Охваченные снами бредовыми.
Ломились черепа, горели Римы,
Аттилы наводили тишину...
Юг долго тлел у севера в плену,
Молчал восток, для запада незримый.
И в эти дни, когда зарей лучась
На рыжем скакуне последний час,
А мы дрожим от счастья, как от страха,
Его ищу я, мудрого пути,
Ведущего туда, где ждет нас плаха...
Ужель строкой нельзя его найти?
"О, всем доступная живая смерть..."
О, всем доступная живая смерть,
Ты отдаешься весело без платы
И гладиатору, чьи мышцы – латы,
И слабому, но смеющему сметь.
На форуме законов блещет медь,
Латынь жестокую зарей зажгла ты,
Твой в прутьях ликторов топор горбатый,
Прут каждый сух и вытянут как плеть.
Жрецы рыжебородые в Ассуре
Считают звезды в матовой лазури,
В Суане женщины колена гнут.
И гибнут звезды в пропасти вселенной,
И сфинксы в прах, но круг не разомкнут,
В нем твой, владычица, скелет нетленный.
"Опять строка моя от крови клейка..."
С.
Опять строка моя от крови клейка,
Не плаха ль предрассветная она.
Рембрантовская резкость ей дана
И пышность лучезарная ван-Дейка.
Судьба моя, прекрасная злодейка,
Прекрасная и злая как луна,
Не ты ль ведущая сквозь времена,
Доводишь легкий челн до дна Лонглейка.
Земли матросы мы, наш голос груб,
Когда кричим друг другу: в трюме труп.
Ржут кони Посейдона, их табун там
В степи не унимается морской.
А я, зачинщик бурь, бряцаю бунтом,
В открытом море мрака бью тоской.
"В Европу сифилис и обезьян..."
В Европу сифилис и обезьян
Матросы привозили, были просты
Мадрида нравы в мрачный век Акосты,
Костром лечили всяческий изъян.
И колокол Кремля был веком пьян,
Точил топор палач ширококостый,
Московия готовила помосты
Обоим вам, Степан и Емельян.
Показывали в клетках на базаре
Ваш пламень, длиннополые бояре
Слюной густой его тушили всласть.
Дымились вами дикие заставы,
И пепел ваш рассеивала власть,
Чтоб вспыхнул позже сев тот величавый.
"В то утро кончил Нулина поэт..."
В то утро кончил Нулина поэт
В селе Михайловском, в глухой опале,
Когда грядущих розовых скрижалей
На площади Сенатской вспыхнул свет.
Казненные в расцвете гордых лет
Бессмертие достойное стяжали,
Их замысел из радуги и стали
Равно мечом и лирою воспет.
Столетнюю справляем годовщину,
Я холодом времен горю и стыну,
На струнах вожжевых мои персты.
Я трогаю века, мой свист неистов,
И звездной вьюгою проходишь ты,
Век Пушкина и буйных декабристов.
"Я в скорби угасающих светил..."
Я в скорби угасающих светил,
Я в смутном ужасе их дряхлой дрожи,
На панихиды песни их похожи,
Их пламень умиранья охватил.
И тот, кто буйством был недавно мил,
Кто Пушкина кому-нибудь дороже,
Застыл с улыбкой на немытой роже,
Он досыта нас хлябью накормил.
Иду один в трагичной мгле рассвета,
Опять строкой могучей ночь воспета,
Метель созвездий млечных улеглась.
О золотом медлительном востоке
Поет петух, не разлипая глаз.
Мой день вздымает свой топор жестокий.
"Эредиа трофеи брал работой..."
Эредиа трофеи брал работой,
Он вел тридцатилетнюю войну,
Пока не взял крутую тишину,
Как древний форт, с неслыханной заботой.
Быть может, не в десятый раз, а в сотый
Он переписывал строку одну,
Как тетиву натягивал струну
И стены пронизал легко как соты.
О, будь литой стрелой, моя строка.
Я знаю, что вершина высока,
И там такой жестокий холодище,
Что кровью там просвечивают льды,
И хаос в кандалах созвездий свищет
И зло дробит льдяную сталь звезды.
"Нет добродушней русского медведя..."
Ф.
Нет добродушней русского медведя,
Его любили дети всех племен,
Забавен он, дурашлив и умен,
И на цепи мычит, по воле бредя.
Он бродит средь лесистого наследья
Непроходимых сумрачных времен.
Один со мною дружен, заклеймен
Он редким прозвищем медвежьим Федя.
Но я боюся дружеских услуг,
Я поле жизни прохожу как луг,
Покрытый облаками и обросший
Травою темной в человечий рост,
И друг мой самый близкий и хороший
С моих висков не сгонит липких звезд.
"О, яркого созвучья новый звон..."
О, яркого созвучья новый звон,
Как циркуля раздвинутые бранши
Скрепляешь ноги ты строфы-тиранши
И чистый разум часто гонишь вон.
Мы для тебя не ведаем препон,
Чтоб не звучало то, что было раньше,
Мы смело вспоминаем о Ламанше
В стране, где жил и Ленин, и Гапон.
Велик простор от Пса до Водолея,
Во весь опор мы скачем, не жалея
Ни белых крыл, ни голубых подков.
Огромно небо, но земля не меньше,
Когда разгладим складки всех веков
Истории, как шелк на менекенше.
"В руке моей качалось коромысло..."
В руке моей качалось коромысло,
Мой конь ужаленный не знал удил.
И первобытный мрак в строках бродил,
А иногда недоставало смысла.
И радугой вселенная повисла,
Но я будил хаос и бурь просил,
Не различал в хмельном приливе сил,
Что мутно юное вино и кисло.
Час созреванья грустно настает,
Холодной веет мудростью в лицо мне,
И сердце учится молчать как лед,
Как пламень каменный в каменоломне,
Таинственной, пустынной и скупой,
Покинутой восставшею толпой.
"Во мраке повторяемых опричин..."
Н.М.
Во мраке повторяемых опричин
Звенят и блещут цепи наших строф.
Орлиноносый Данте был суров,
Но ад покинул он для Беатриче.
Для Пушкина был Дельвиг закадычен,
С Есениным дружил Мариенгоф,
И у моих изменчивых стихов
Есть тот, который дружбы чтит обычай.
Он званый гость всегда, бывает сух.
О, муза, никогда он не притворен.
Давно, быть может, пламень мой потух,
Но холодок в полночном разговоре,
Полярные созвездия клоня,
Пронизывает вечностью меня.
"Гремит столпотворение времен..."
Гремит столпотворение времен,
Смешались поколения и речи.
«Вперед», – хрипит обрубок человечий
Из-под обломков каменных колонн.
А круглый и покатый небосклон
Тупым молчанием могуч и вечен,
Старинным солнцем день, луною вечер
И рябью звезд полночный мрак клеймен.
Мне стыдно петь, я песней режу будто.
Ах, может быть, и нет позорней риз,
Чем ризы красные певца и Брута.
Был Цезарь, Юлиан, был наш Борис,
Их лики сумрачны, их пламя зыбко,
Но всех жесточе тот, чей взор – улыбка.
"Мы бронзовые люди могикане..."