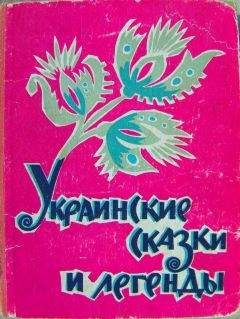Максим Богданович - Белорусские поэты (XIX - начала XX века)
В ОСТРОГЕ
© Перевод П. Семынин
Из Окружного бумаги прислали,
Что после коляд назначается суд.
А люду немало в остроге держали,
И больше безвинные мучились тут.
Был, правда, из банка панок вороватый
И писарь, в подделке бумаг виноватый.
И я тут сидел, а за что меня взяли —
Ни сам я, ни судьи б о том не сказали.
А писано так: «Уничтожен им знак…» —
Колок на меже. (Был как сгнивший бурак,
И чирьем торчал на загоне моем.)
Его сковырнул я, наехав конем.
А чтобы мне трубку палить без огнива —
Костер разложил я на пахоте живо,
Колок расщепив… И, посеявши гречку,
Вернулся домой, завалился на печку.
А утром, чуть свет, ко мне сотский стучит:
«Скорей собирайся, урядник велит —
Приехал и всех созывает на поле,
Чего-то записывать там в протоколе».
Пришел я, урядник на всех наступает:
«Чья эта граница? — кричит, угрожает.—
Кто знак самовольно спалил межевой?
Сознайтесь! Когда учинен был разбой?»
Урядник строчит себе… Я же смеюся:
«Ох, страшно. Уж больно тебя я боюся!
Знать, брат иль отец тебе этот гниляк,
Что ради него ты усердствуешь так!
Иль, может, один он и есть твой земляк?
А может, он высших чинов нахватал:
Исправник иль, больше того, — генерал?
Приблуда! Вали-ка обратно живее!
Дохнуть уж нельзя тут от вас, лиходеев!
И все вы, как кол этот старый, сгниете,
Народ же с родимой земли не сживете!
Вас так же кобыла моя сковырнет —
Не то что наедет, а только чихнет…»
Сельчане хохочут, — мол, выкуси, гад! —
Любой утопить бы урядника рад.
А он, что скажу я, всё пишет и пишет,
Еще переспросит, чего недослышит.
Меня же такой тут задор разобрал, —
А рядом, на поле, мой дядька пахал,—
Я кнут его взял, половчей раскрутил
И трижды урядника сзади хватил.
А он закричал: «Караул! Тут разбой!..»
И вновь записал, торопясь как шальной,
Вскочил на коня и — айда прямиком.
Народ же от смеху аж плачет кругом.
Смеемся себе сгоряча, невдогад:
Урядник — начальник, не то, что наш брат.
Неделя проходит, вдруг сотский несет
Повестки: начальник нас в волости ждет.
На тройке уж он прилетел со звонком,
Вести будет дело под строгий закон.
С зарей собрались мы, куда ж тут деваться!
Мужчин два десятка и женщин двенадцать.
Идти же нам надо две мили до места;
Пошли, а зачем — никому не известно.
Один говорит: «Верно, вышел указ,
Чтоб лишние подати скинули с нас».
Другой — что прибавят земли, а оброк
Отменят, кто выплатить к сроку не смог;
А бабы: «Епископа нам воротили
И розгами выдрать панов присудили
За то, что всё продали немцам, враги,
А сами залезли в такие долги,
Что по уши в банках и кассах сидят,
Бросают поместья, в Париж норовят;
Леса все торговцам успели смести,
Живут, только б день как-нибудь провести».
Но толком никто в это утро не знал,
Зачем нас к начальнику сотский призвал.
Явились. Начальник, действительно, здесь.
Выходит в мундире, начищенный весь.
«За что вы урядника вздули, ребята?
Он еле, бедняга, добрался до хаты».
— «За то, — отвечаем, — что жаден, пролаза,
Яичницу любит, курей и колбасы;
Особенно нюхать повадился в хатах,
Где баба одна, а хозяин в солдатах;
Свиньею пасется у нас в огороде,
Гони его в дверь — в окно он заходит.
Всё, что ни увидит в дому, — вымогает,
Не то что в кладовку — в карман залезает.
На поле столбец — и его ты не трожь.
Того же не видит, где правда, где ложь.
Знай пишет да всех обижает и злобит,
И нам он — как кашель при тяжкой хворобе».
Мы этак лопочем, а пан себе пишет,
И жалоб он наших как будто не слышит.
А после читает: «Такие-то люди
При службе урядника рвали за груди,
Призналися сами — как, чем его били,
И знали, что этим закон преступили,
Что шли против власти, открыто грозились,
Урядника кончить селом сговорились.
Я ж, главный зачинщик, спаливший колок,
Я в бунт мужиков неразумных вовлек,
А значит, в острог меня надо упечь,
Престрого судить и позорче стеречь».
Начальник читает, а мне всё сдается,
Что он над людьми и над правдой смеется:
Равны пред законом и пан и мужик,
Так чем же урядник, индюк тот, велик?
Коль он тебя треснет — терпи и ни слова,
Его ж не касайся, как Юрья святого.
Так думалось мне, но случилось не так:
Урядник на службе — то, брат, не пустяк,
И ты с ним носись, как с болячкой какой,
Он — это не он, он — артикул живой,
Разделы, статьи и все своды закона!
Мужик перед ним — всё равно что ворона.
Сдавалось мне прежде: кто б ни был глупец —
Пускай он вельможа, богатый купец,
В мундире расшитом, в жупане ли новом,—
Как был, так останется он безголовым.
И нюхом такого почует собака,
Везде ему будет «почет» одинаков.
И присказка есть, что господь — не овца,
Он метит и глупого, и шельмеца.
Законы ж и думы простого народа —
Что ночь и что день, что тюрьма и свобода.
Вот этих законов понять я не мог,
За то и попал арестантом в острог.
И тут уж глаза мои всё увидали,
Всё понял, как в царскую хату загнали.
А ныне учить поведут меня в суд,
Чтоб я уважал и начальство, и кнут,
И столб, что гниет на меже у дорог, —
Всё это навеки назначил нам бог!
ПОБЫВАЛ В ПЕКЛЕ
© Перевод П. Карабан
Раз, в день поминальный, домой возвращаюсь
Ровнехонько в полночь… а мрак непроглядный!
Не то чтоб уж вовсе валюсь, но шатаюсь
То вправо, то влево, хвативши изрядно.
Иду, рассуждаю: теперь нам раздолье,
Иль при панах было более сладко?
Считаю по пальцам: двенадцать до воли
Я прожил годов да при ней — три десятка,
Приказчик там был, комиссар, старшина,
Бурмистр, экономка, лесничий, паны.
И в руки была им нагайка дана,
И каждый охоч был до нашей спины…
А нынче… Ой, что-то невесело вроде!
Не больше ли с волею стало панов?
Не больно свободно при этой свободе…
Стал новых панов я подсчитывать вновь:
Староста, сотский, писарь и дале:
Посредник, урядник, асессор и суд,
Съезд мировой, присутствие, сход…
Аж волосы дыбом от ужаса встали,
Аж пальцев не стало, чтоб кончить подсчет, —
А как же без пальцев кормить этот люд?..
Бреду я… как вдруг — провалиться мне! — там
Ну точно покойный стоит эконом.
Вгляделся я — он-таки, право, он сам:
И стриженый ус, и нагайка при нем.
Худой только — ребра все можно счесть, —
Кожа да кости и белый как снег,
Только на сердце пятнышки есть
И пятна на пальцах — видно, за грех…
«Братец мой, — молвит, — братец Матей!
Спаси мою душу из пекла,
Вырви от подлых чертей,
Чтоб вечных мучений она избегла!
За двадцать пять лет, что в пекле томился,
Грехи искупил, ото всех я отбился,
Только один липнет к сердцу смолой,
Пятном он чернеет несмытым:
При жизни с твоей согрешил я женой,
Да и ты ведь невинно был битым.
Ох, спустись-ка со мной, зачерпнувши воды,
Ты к нам в пекло, до самого дна,
И прости уж, что встарь, когда был молодым,
Мне твоя приглянулась молодка-жена.
И водой ты на сердце мне брызни, Матей,
Буду бога молить за тебя, за детей!»
Заплакал я с горя, но зла к нему нет.
Натерпелся и он; хорошо, хоть живой!
Весь иссох на огне, превратился в скелет.
«Что ж, взгляну я на дива, спущусь за тобой!..»
И чудес же там, братцы, в том пекле! В котле
Черти грешников варят в кипящей смоле,
Тащат, рвут на куски, запрягают их в воз,
Тянут крюком кишки, а зубами за нос;
Рвут ногтями лицо, тычут в очи колом,
Как сапожный товар, зачищают ножом.
И кого же там нет? Там и пан и батрак,
Эконом и мужик, генерал и солдат.
А уж девок да баб — скажем так:
Ровно втрое томится там, брат!
Кто за что: бабы все — за язык, до одной,
И у каждой язык — с полотенце длиной.
Обдирает их нож, обжигает смола,
Но очистить нельзя языки добела.
Много там молодиц, изменявших мужьям,
И красавиц, и сводней седых.
Видел многих знакомых я там,
Но уж я не затрагивал их.
Мужики в небольшом там числе,
И всё больше паны, кто богат.
На тот свет, отстрадав на земле,
Как по маслу уходит наш брат.
А панам трудновато терпеть
Без привычки… Так стонут, что страх!
С виду пан — здоровенный медведь,
Черт же в дышло запряг — и трах-трах
В хвост и в гриву! Знай хлещет кнутом,
Морду крутит вожжами, за космы дерет,
Только пыль по дороге столбом —
Вихрем пан воз чертовский везет.
Господа там и строят, и жнут,
Подметают, пасут там свиней,
А смолу точно мед они жрут,
Натаскали уж горы камней,—
В пекле надо им вымостить дно…
Только проку и толку от них ни на грош;
На земле от работы их горе одно,—
Ну и там точно то ж!
Из ксендзов-то, я думал, там нет никого,
Только глядь — ан и ксендз тут сидит.
Черт кругом обложил кучей денег его,
Подпалил их, и ксендз вместе с ними горит.
А другой там подвешен, да как!
И сказать мне об этом-то стыд:
Покраснел он от срама, как рак,
Очи жмурит, как кот, и горит.
И честит его баба, кляня,
Так ругает, что слушать нет сил…
Обругай кто-нибудь так меня,
Я давно б его со свету сжил.
Становой, старшина тоже тут.
Этим деньги все черт соберет,
Скрутит туго деньжонки те в жгут
Да и в горло воткнет и колом пропихнет,
Керосином польет их потом —
И пылает тот жгут в горле жарким огнем…
А народу там! Всякого званья и лет,
Роду-племени всякого, всякого веку…
Кто не жил на земле, лишь того там и нет,
Не дай бог туда угодить человеку!
Насилу пролез я в закут, где тяжко
Мой эконом искупает грех,
Черт и его гоняет в упряжке —
Вспотел, бедняга, пить просит у всех.
Я в лицо ему брызнул водой —
Он обрадовался, как дитя,
И так потянулся к чернильнице той,
В которой я воду принес для питья,
Что тут же исчезла вода моя вдруг.
А сам эконом побелел, как дым,
Расплылся, рассеялся паром вокруг
И облачком тихо растаял седым.
Не помню, как вышел из пекла того…
Очнулся я в хате на печке уж днем.
Все плачут кругом — не понять, отчего?
Во мне ж всё горит и печет, как огнем,
Трещит голова, ноют кости и тело,
И нет больше мочи от жажды страдать.
Напился и снова упал, помертвелый…
Вот так довелось в пекле мне побывать!
СМЫЧОК