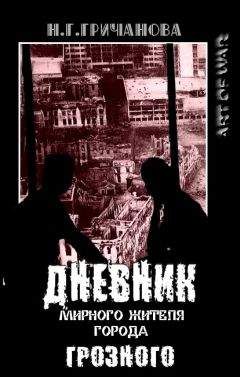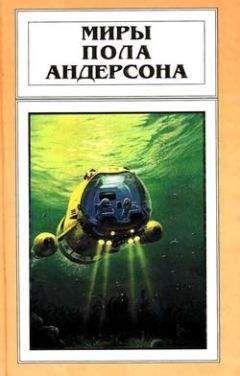Наталья Загвоздина - Дневник
П. Крючкову
Чей силуэт в погубленном именье
покажется едва?
Какая безутешная езда —
Суханове – История… И меньше
галчонка, зимовавшего в пустом
дворце, ты, юный паж – перо и шпага,
очки… О юноша, ни шага…
И хищник прековарный за кустом,
и виршей невостребованных – с том…
Ты знаешь – говорить и жить – не шалость.
Прости ж – иди! Иди, стучи и стой,
тебя услышат и тебе откроют
все, кто… здесь пропущу. Все те, но кроме…
Будь столько сильным, трогательным сколь,
сколь беззащитным… Не примерить латы.
Да что они? – железо, сцена, звон…
Твои – покрепче: жилы, сердце – свой
Крест. Но нет, не так серьёзно – ладно?
Е. Авдеенко
Из ничего! – Божественный Глагол
всему Творец. Поэту – назиданье.
Мы – есть, покуда следуем. Доколь
ведёт, не отпуская, нас и дальше.
Ведёт и не пускает – знать предел
тебе даёт – «не спи, не спи, художник»…
И в праздный час в безделье, и средь дел
ты остаёшься, как и был, задолжник.
Коль ноша тяжела – возьми свою,
не устыдясь её простого платья…
Кому – сомненья, а кому – союз,
в каком уже не думают о плате.
Печаль ли, скорбь, невзгоды борона —
что на веку не вспахано, не снято!
Тебе ж – туда, где тонкого руна
снимают дань и призывают в святость.
У вдохновенья неприметен лик —
покажет перст, мизинец, волос, ухо…
То водопад, фонтан… И тут же сухо
во рту, в гортани… Горьковато лишь
в душе, а там – во всех её сторонках…
Бежишь, плутаешь лабиринтом троп
нехоженых – то путаных, то ровных…
Попадаешь, подержишься за трость…
Куда-то приползёшь, придёшь, достигнешь —
вот тронный зал, корона, скипетр, люд…
Осмотришься – как он уже не люб —
удел нелёгкий… На! Бери! Да ты – где ж?…
Всех солнц не соберёшь. Храня его в груди,
разнимешь на восход, закат, зарю и проблеск,
как если б заглянуть в глазок и покрутить —
забава для детей, и юности – на пробу.
Как если б заглянуть в глазок и покрутить —
о, что ни поверни – всё кажется не промах,
всё краше, но зачем? Постигнувшим – что проку?
Всех солнц не соберёшь – храни его в груди.
Ты помнишь день и час, в какой тебя согрел
его безмолвный луч, а ты услышал голос,
и, слушая призыв из пламенного горла,
ты следуешь – дитя, подросток, муж, согбен…
Согбен и стар… Иль мудр – прими на выбор.
Стекло в игрушке – жизни не пример.
Одна судьба – прими её размер,
пока ты здесь, пока ещё не выбыл.
Как ты, волна, ни бейся,
утёса ты не смоешь.
Смотреть из поднебесья,
с волной воздушной, можно
на горные уступы
и впадины глухие…
И разглядеть, что тут ты,
внизу нагорных хижин.
Но капля камень точит,
сдвигается Рукою
пространство… И рекою
течёшь подземной тонкой.
То сякнешь, то бурлишь,
то озером затихнешь,
от прежних небылиц
уплывшая – за тыщи…
Чего? – Да надо ль знать?
Течёт поток словес…
И в новую волну,
без промаха, Ловец
забрасывает снасть.
А когда я приду – я скажу,
а когда я приду… Я смолчу,
как и ты – только дрогну губами.
Незаметно сниму золотистую цедру кожур
мандариновых… Чуть
фитилёк у лампады убавлю.
То стесняет, то жмёт —
давит быль. Кожура мандарина,
прихотлива, легла – подсыхает её завиток.
Разом цитрус и дух из ночи палестинской… Не то.
Разом горечь и мёд,
а не дар жидковатый ландрина.
Что скажу, что смолчу?
Это будет слеза и слеза,
это будет сиянье, увы, не Фаворского света.
Не неверен, но верен Фома, отвечающий смело…
Не могу произнесть – перемалывать тайну в молву.
Я в Углу попрошу – пусть одна остаётся стезя.
Где Господь наш и Бог,
и где мы, неразумные дети,
так хотевшие в жизнь замешать и страданье, и свет,
так спешившие жить и того получившие сверх.
Мы с тобой перед Ним постоим напоследок – раздеты.
Я войду в твой чертог.
Б. Пастернаку
Качались птицы на ветвях,
а бури не было в помине.
Сегодня здешние ветра
гуляли далеко по миру.
Здесь лёг оплаканный поэт.
Легка земля в прозрачном платье.
И снег лежит, и снова плачет
дитя на недалёкой даче,
всё повторяя букву «м»…
Всё повторяя букву «м» —
экслибрис своего рожденья…
А на заснеженном растенье
качается пернатый эльф…
Здесь стихотворца тих приют,
лишь скрипнул снег под ножкой девы,
пришедшей поутру без дела,
когда в безмолвии блестела
звезда, упавшая – в июнь.
А было? – сад и райского пера
и пенья райского – глазок, свеченье, эхо…
Ты – в нём, живёшь и знаешь – Это.
…А было, что и сад – тебе не рай.
О, алчность – Евин горб, порог Адамов!
Ну что не жить под щебет сладких птиц?
Что музыка, молчанье, голос, тишь —
здесь, где не рай? Коль помнится – а там он!
А там он – днесь, и Праотец у врат.
И где-то мы, кто поодаль, кто дальше,
утраченного ждём, теряясь – враз,
блуждая по садам, не райским даже.
Блуждая по садам – не тем отнюдь…
Единое разменивая скоро,
и жизнь, соединённую в одну,
без страха выкорчёвываем – с корнем.
Посадский день не светел, а угрюм.
Успенский купол только остров в небе.
И ягоды, похожей на урюк,
здесь не видать, а так хотелось мне бы
туда, где купол неба синь до дна
и в синем небе золотые звёзды…
Которые сияют на извёстке
посадского собора… Как одна
звезда сияла над родильным хлевом…
Но день угрюм, и тучи мрачных птиц
над Лаврою – что богомольным хлебом,
как богомольцы, падавшие ниц.
Но день что дар – приму его навеки.
Горька рябина, жив честной народ,
стоявший нескудеющим навершьем
сквозь непрерывный времени нарост.
Сияй, звезда! Мы здесь в твоей юдоли,
какие б ни манили небеса.
Лишь день угрюм. Так смотрит – не весна,
теснящая непрожитою долью…
А нам бы – так: навстречу, сколько сил,
шагать на свет негаснущей лампады.
Идти – туда, в груди не угасив
живой огонь, чтоб, не дойдя – не падать.
Где горько так, что силы нет у век
ни яблоко сберечь, ни приподняться,
где губы поворачиваем вверх
усильем неискусного паяца,
где тоненькая плёнка на зрачке
саднит слезою под закрытым веком…
Мы – странствуем, не ведая – зачем
так грезим, как о будущем – о ветхом.
Перечит глазу зримого стоп-кадр.
Здесь занавес, а то была – Завеса.
Как если бы не… Не того замеса
проходит жизнь, прошедшая сто крат…
Не наша, не для нас, не нам – заместо.
Заместо снегиря не красногруд
ни братец воробей, ни птаха рядом,
не знавшие особого наряда…
Особого – похожего на груз.
Мы ж, ведавшие, что такое грусть,
соткали жизнь, похожую на рядна…
О, грубый холст… О, редкой нити ряд…
Плетись, пока мы тут, без перерыва,
чтоб в зримое смотреть и не терять
ни взгляда на… Ты смотришь ли? Ты рад
смотреть, как смотрит вглубь библейский рыбарь?
Заместо жизни – жизни не прожить.
За занавесом кроется Завеса.
Сокрытое безмолвно и словесно.
Свободные исполнив виражи,
сотки своё вместилище Завета.
Где грустно так, что вечер – как ни глянь,
где ночь длинна, а утро безответно,
где в видимую явь врастает мгла,
как хлопковых коробочек соцветья,
исторгнувшие плоть… Цветёт туман,
сплетает время хлопковые нити…
И ближе на стежок подходит март,
пока его холстина только снится.
Уже бо и секира при корени древа лежит.
Мф. 3, 10Лимонница – спешащим лепестком
прикинувшись в означенном апреле,
присыпана, как шёлковым песком,
пыльцою кисло-жёлтою… А прежде…
Здесь был Раёк – неспешно плыл песок
времён – в часах, в волнах соседней речки…
Здесь Родина исхожена пешком,
и слышны приснопамятные речи
Отечества попранного сынов…
Здесь падают подкошенные древа…
Но недругов не вечен и не нов
удар… Коль ждёт секира – древле.
Захарова, Голицына, Вязём
мелькал пейзаж в пылающем закате,
и вспыхивал у сердца, и за картой
окрестности, невидим, невесом,
тот кадр, что называется – за кадром.
Толикий груз – ату его, ату!
Чего блазнишь без сроку и без меры?
Как будто можно душу на лету
измерить неуступчивым безменом
иль вымерить – у времени – бессмертье?!
Минуло тридцать – вяжет канитель
свои узлы, сцепляя чёт и нечет,
то нет, то да, то отозваться нечем,
то тем молчим, то говорим – не тем.
Что три, что тридцать, что совсем не счесть
холмов, дорог, пути вперёд и в горку…
Лишь – было, и смотри – уже ни с чем
идём и попираем тверди корку.
А здесь – всё то ж, и узко канапе,
и сумерки стесняют анфиладу,
и кажется, что можно канитель
оставить… и отправиться в фиакре…
В Италию, в Неаполь, к Богу в Рай…
Иные дни – иных поэтов «детство»…
И молвится – чтоб отправлялись враз…
И слышится – что никуда – не деться…
В шалмане солнечном – не так, не то, не те…
Кочуют тонкорунные барашки
по горкам золотым… А здесь – вне тем —
базар – вертеп – и рыбные баранки…
Крепчает дух из соли с чешуёй —
бежим, бежим! – не Керчь и не Одесса…
И – рядом – помышляя о своём
и примеряя общие одежды —
мы ходоки из меченого детства,
из молодости меченой – не деться!
Мураново – Ау! Так с чем? – уйдём.
Да так и плыть! – в ковчеге золотом,
дышать пыльцой нетронутых растений,
чтоб разглядеть за жизнью, за листом
бумажным – Жизнь, и вместе с теми
остаться, кто остался – не растерян.
Здесь не парад, здесь грудятся дома
в один ковчег, сбирая тварь по паре,
но это – путь не Ноев, не в Дамаск
путь Савла, и не мойры, парки
творят судьбу… Оставим мудрецам
что – далеко… Останемся поближе.
И убирая время от лица,
вдруг разглядим, что вылеплено – лишним.
Пион как пачки балерин на озере,
где доброе и злое —
ожившее – выкручивает па,
и падает, и держится в изломе
стопы, судьбы… И воздухом дыша
одним – вдруг разделяется на выдох…
Пионова воздушная душа
склонилась, как балетные на выход.
Чьим ирису пристало платьем стать,
что золотист, лилов и будто бы небрежен?
Так ветер оборачивает стан,
у линии безбрежных побережий,
испанки, андалуски… Но зачем
так далеко, так горячо, так южно?
Коль ветру не назначено – за чьей
спешить душой – испытанной иль юной…
…И прочих – хор, что сложены в букет —
свечной люпин, дурманящий чубушник,
назначенные в вазу, на буфет
поставленные, видимо, что будут…
Что будут. Будут… Будут? Грузный век
прижал к земле и душу в персть впечатал,
и, радугу срисовывая с век,
полощет в мироздании печальном,
раскладывая прачкой на цветах
свои холсты, как древние крестьяне,
златые – расправляя над крестами,
и целое слагая из цитат.
Двадцатый день июня – Духов день.
Что ветр принёс? И дул ли от Сиона?
И не был ли толикой моциона,
парящей в безвоздушной духоте?
О, нет. Я помню Холм, и Шум, и Вихрь,
коленопреклоненье в твердь Сионю,
с падением и с жаждою – с иною,
с ненадобностью составленья вирш…
Москва дрожит, и дождь стоит стеной,
иной ретиво ждёт зонта укрыться,
иной – молчит, сверяя скреп у крыльев,
взлетая – из утробы – гостевой.
Когда бы на Басманную – в Москву! —
что за дела?! С билетом в третьем классе
три барышни, актриса – тот же классик,
перемешавший горечь и тоску,
и ласку – свет и тень… Сойдя со сцены,
вдруг разошлись, оставшись между нас,
как будто – без лица, без слов, без цели…
Но не давая драму – на бестселлер
переменить, когда с душою смежена
душа… Короткий миг… что жнёт и сеет.
Здесь бередит волненье трав
что схоронилось в слабых удах —
и не-преодолимый страх,
и нерастраченную удаль.
Мне поле колосков кладёт
в ладонь поникшие головки…
А жизнь, что в плаванье ладьёй
пошла, уже бежит галопом…
Куда ж нам плыть, спешить, бежать,
коль каждый колосок на месте,
и на полях священных жатв
всяк убегающий – намечен.
В костромской картинной галерее,
не мигая, смотрит мальчик в красном
на былое, будущее… Греет
на ходу июль… И август, вкрадчив,
достаёт до краешка, тревожит…
О, не Юг, не Франция, не Ницца…
Где глядят возвышенно и низко
берега, сливаясь в волнах волжских.
Где в корабль, плывущий не по ходу,
ни войти, ни выбраться наружу,
ни забыть, ни вспомнить – не нарушив
череды тяжёлую походку…
Все мы дети с воинским уставом,
лишь – резвиться, да уж крепко держит…
Мы – устанем, только не устанет
мальчик в красной масляной одежде
в костромской картинной галерее —
старый холст и безымянный мастер…
Нам – не то, мы названы, мы зреем —
отдохнём, увидев свод в алмазах,
может быть… Вдоль улицы губернской
я плыву от ключика до устья
по реке незримой – от купели
до слиянья, где светло и узко —
и откуда «вдруг» Источник Света…
Этот малый городок затерян,
но болит вселенскою затеей —
память, стынь, тоска – макушка лета…
Это Мальчик – он берёт за душу,
он опять неопытен и красен…
Это время – с плаваньем подушным
под – под грудь – затянутое – рясой…
Пыль и зной – безвременно и жарко,
проплыву и выберусь на насыпь,
как рыбёшка, вынутая наспех
из воды – уже – с метой на жабрах…
Так что – где он, где он? – мальчик в красном,
в башмачках из новенькой лазури…
Наперёд – безвременен, и вкраплен
в череду… как преданность и сурик —
в жизнь и холст… А мы – вперёд – теченьем…
Оставляя годы, город, горесть,
книгу, лист, страницу, строчку – повесть,
чтоб взрослея – сделаться – точнее.
Что этот день? В нём всё – что у Творца.
Сумей принять и – будет. И вперёд,
быть может… Может быть, земным пером
не начертать… Ни прямо, ни с торца
не посмотреть творению в упор.
О, вечный день! О, яблоки в раю,
что падают оземь в людском краю
и – в медь, и в таз, в варение – в укор
иль молча, незатейливо… Укрой!
И – не держи, и – следуя – врачуй.
Когда знаешь Имя,
но не – чему оно входом,
когда под его взглядом
остаёшься и идёшь, оставаясь,
когда называешь – Ольга —
а в ответ – воды, звезды —
тогда Ольгиной солью
соединяются звенья.
Ольга – вход – выход.
А как, что больше – не
теченье влаг, паденье
разомкнутых частей,
движенья океан? —
Молчание воды,
вмещающей вселенной
подробность, существо.
А как, что больше – нет?!
Молчание воды —
начало и конец.
Блажен, кто спит. Кто бодрствует – трикрат.
Со спящим – тсс… С живущим – унисон.
Как далеко скрывается тот край,
куда заснувший рядом унесён.
Спит. Бабочка сжимает, не дыша,
ещё слегка мерцающий узор
прозрачных крыльев… Лёгкая, как шаг
бесплотный, уносясь – за горизонт.
Что ж бабочка-душа? У ней иной поток,
которого не зрит, но верно в нём вовек.
Мы ж, дремлющие днесь, пробудимся ль потом
друг друга увидать из-под прикрытых век?
На родных бережках
мы… с солью…
Острей снежка,
солоней прибоя…
Всегда – при боли.
На родных бережках
без боли – ни шажка.
Так – том за томом
слагаем – Домом.
Это Дом, сложенный из:
сверху – свода, земли – низ.
Сосны, ели – по пятьдесят
чуть дыхание потеснят,
да покалывает душу
перышко в подушке.
Изумрудная краска – хвоя, терраса,
лестница…
Лестница в недра, где дно и небо.
Так полетим, впечатываясь в свет,
сойдясь в одно, невидимое глазу,
безгласное, неслышимое – вслед
другим, вперёд других, избравши главным
сей путь – полёт, равненье, пеший ход —
совместное: дыханье, сон, разлуку…
Чтоб всюду притекал нездешний хор
потоком к иссыхающему слуху.
Услышать «Се Жених…» и видеть Дверь Чертога
– Апрельский Переход и страшен, и велик!
Дыханием одним поставлен за чертою
внимающий Тому, Кто смерти не велит
попрать собою Жизнь – «Где, смерть, пустое жало?!»
Я снова соберусь, надев простой платок
на голову себе, без ропота, без жалоб,
без сожаленья о… Без муки о «потом».
Крестчатая фелонь, вестившая страданье!
Я свечку сберегу зажечь огонь в Углу.
Гори, огонь в груди! Свеча и страх растают,
утробой протекут последнею – и глух,
и слеп восстанут днесь. Разбойникова плача
чьё сердце повторит мученье и исход?!
А день уже зовёт, медлителен и скор,
изведать на губах полынь Святого Плата.
Кольцом уездного Кремля
соединив зиму и осень,
из золотого – в бурый, в проседь
уходит из-под глаз земля.
Ошую под ногой дворец —
вверх! Вверх! Но не взлететь в помине.
А одесную – что по миру —
разруха, разность… Но Творец
поспешествует им доселе.
Рукою – до монастыря,
источника благих, до сердца —
вот… Как по гласу мытаря:
«Да буди милостив худому…»
Душе недужной, хладным дням…
Чтоб полно вычерпать – до дна
на гостевом пути – до Дому.
Объединимся – Вереёй,
Можайском, Боровском, Ростовом —
единой памятью. Её
землёй нездешнею расторгнем.
Одну бесценную – она
перед какой не удержалась
ценою? Осень – не о нас —
«проговорила» – вслух – без жалоб.
А далеко, на севере – в Париже —
быть может…
А где-то далеко, укрывшись старой кофтой,
то грезишь, то грешишь китайскою стряпнёй,
и смешиваешь в жизнь неметчину и Овстуг,
«француза из Бордо» с «проклятою» страной…
Где воля не в наём, свободен путь, – по ветру
плывёт земной корабль, – попутного! И в грудь
как драма – из груди – ударится… Поверьте!
Со всеми говорят прощение и грусть…
Забросила б совсем неверное занятье,
да то прихватит дух, а то сведёт на нет
дыхание в груди… И вот «пожалте» – нате!
Бумага – на ходу, дыхание – на ней.
«Прощение и грусть» не фортель графомана,
вокруг сам Божий мир без сдачи и долгов,
где верою пошла и верою хромала…
Одно сама – хромаю. Всё сущее дал Бог.
Вплотную – ко стеклу – прижался стук и лепет.
Ноябрь – плохие дни – подмоченный прикид.
Сомнительный снежок навстречу бьёт и лепит
бесформенный сюжет рассудку вопреки.
Ату его, ату – прогнать не в силах вовсе.
Отбросить, повернуть – догонит и додаст.
То в зиму каплет день, то ночь впадает в осень —
что этакой чреде до правил и до дат?
Сиди. Пиши в тетрадь. Рифмуй, косясь в потёмки.
Там, право, по серьгам и братьям и сестрам…
Где резво лепят баб горластые потомки…
И караулит «зверь» с названием «се страх»…
Ату его, ату! Гляди в глаза, не прячась.
Живи своей чредой в законе – благодать
не минует, придёт, сотрёт рукою прачки
ненужные следы, неведомо – когда.
Теперь в чести ноябрь, ущерб и непогода —
мы все отчасти как отставшие от стай
пернатые… С крылом, до срока непохожим
с грядущим, что спешит и медлит прорастать.
Российского житья не вычерпать заочно,
как неродимых щей ни пробуй, ни хвали…
Как ни востри перо – ему ответит прочерк.
Какая жизнь… Ноябрь – гримаса, маска, лик?
В саду Монсо или в ещё
Саду задержишься недолго,
вмещаешься тогда – не только
в земную поросль. Тайный счёт
уже ведётся. Под ногою
ещё земля, границы, мир…
Всё движется – в единый миг
предстать нагою подноготной.
…Где все сады земли полны и откровенны
и бродит молоком взрослеющий рассвет,
где сам ложится свет мозаикой Равенны
и тает на глазах (увидишь: раз – и нет)…
В Италию… В кувшин, в сапог, в ковчег, в колодец…
О, путник, Ной, вино, прозрачная вода…
Что проще – полюбить?! Труднее – не воздать…
Покажется – уже… Но не достичь Коломны
ещё (её холмов ни счётом, ни красой
особой не равнять с семью)… Вечерний Рим
слит с вечностью в один мерцающий сосуд,
чтоб чисто смыть росой тысячелетний грим,
где мальчики земли волчицы грудь сосут…
Что ж Русская земля, что Старицы удел?
Лишь высмотреть глаза и снегом протереть.
И дальше по холмам коломенским… теперь —
как прежде и потом! Без мировых утех.
ДО ДНЕВНИКА