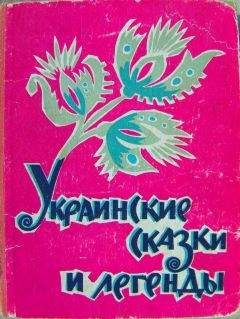Максим Богданович - Белорусские поэты (XIX - начала XX века)
БОГ НЕ ПОРОВНУ ДЕЛИТ
© Перевод Б. Иринин
Бог сиротину любит, да доли не дает.
Народная поговоркаПочему на свете белом
Не по правде делит бог?
Этот — жирный да дебелый,
Раззолоченный до ног,
А другой, едва прикрытый,
И онуче был бы рад;
Свитка светится, как сито,
Всюду дыры меж заплат.
Тот — домов настроил много,
Да каких, — что твой костел!
Поселить бы там хоть бога,
Так и бог бы не ушел.
А другой — в хлеву ютится,
Ветер ходит, дым и снег,
Тут и телка, тут и птица,
Тут и мука, тут и грех.
Этот — странствует в вагоне,
Вымыт, вылощен, прикрыт,
Мчится — ветер не догонит,
Сам же опит себе да спит.
Тот — в морозы да в метели,
Что всю кровь застудят в лед,
По сугробам еле-еле
С узелком своим ползет.
Этот — хлеба и не знает,
Только мясо да пирог,
И собакам он кидает
Всё, что сам доесть не мог.
У другого ж — хлеб с мякинкой,
В миске — квас да лебеда,
Пища — сообща со свинкой,
Пополам с конем — вода.
На того — в сплошные будни
Спину гнут десятки слуг;
Жир его трясется студнем,
И подушки — вместо рук.
А вот этот — для десятка
Дармоедов льет свой пот.
Весь он высох, как облатка,
Руки тонки, впал живот.
ЗАВИСТНИК И КЛАД НА ИВАНА КУПАЛУ
© Перевод П. Семынин
На краю деревни, у коровьей стежки,
В кривенькой хатенке об одном окошке
Жил мужик, завистник, — век он был ленивым,
Думал без работы сделаться счастливым.
«Счастье, — рассуждал он, — лишь в мошне набитой —
Значит, нужно где-то клад найти зарытый».
Сразу за деревней лес темнел заклятый,
Мужику он виден прямо был из хаты.
В том лесу недобром не росло травинки,
Не было дороги, не было тропинки.
Все его боялись, шла молва в народе:
Коль туда кто вступит — черт неделю водит.
Раз домой со свадьбы брел завистник пьяный,
Да и заплутался в чаще окаянной;
Влез в такие дебри — свет весь проклинает;
Вдруг поодаль видит — огонек мелькает.
Думал — хата близко иль в ночном ребята,
Кинулся — и с версту шел всё в лес куда-то.
Смотрит, а огонь тот из земли берется,
Хоть горит — не греет, тронь его — не жжется.
Оробел завистник, даже протрезвился
И уж как — не помнит — дома очутился,
В самый дальний угол на печи забился.
А с зарей деревню мигом весть про это
Облетела, будто почта-эстафета.
Один так расскажет, а другой иначе,
Всяк по разуменью своему судачит.
Один скажет: верно, молния сверкала,
А ему в глазах-то спьяну вон что встало!
Другой: мол, светилась могилка святого,
И тому, кто видел, — счастья ждать большого.
А иные: это клад мигал заклятый,
Будет наш завистник, как найдет, богатый.
И мужик стал думать: как бы тут разжиться,
Пусть бы даже кладом с чертом поделиться.
Праздник или будень — всё сидит гадает;
Глядь, однажды к ночи кто-то вылезает
Из ствола колодца — ряжен по-немецки:
Капелюх высокий, вместо фалд — обрезки,
А штаны что дудки, — тощий, как в чахотке,
На глазах стекляшки, сзади хвост короткий.
Враз смекнул завистник, что за гость явился,
Задрожал со страху, потом весь облился,
Всё ж спросил, оправясь, хоть и было к ночи,
Будто сам не знает: «Кто такой, паночек?»
— «Плипатент, не здешний, езжу постоянно,
Закупаю души каждый год для пана».
— «А ваш пан богатый? Дорого ли платит?»
— «И-их! Считай, мильёны он на это тратит.
У него, что щепок, этих денег столько!
Всякого закупит, будь похуже только».
— «А к чему бы души, кажется, худые?»
— «Э! Хороших портят сами же святые!»
— «Ну, а мне продаться можно будет тоже,
Чтоб я стал богатым… только подороже?»
— «Можно, — молвит немчик, — отчего ж не можно?
С нашим паном дело всякое надежно.
При себе-то нету, но за топью, в пуще,
Клад лежит заклятый в самой темной гуще.
Там на хуторочке ведьма проживает,
И как взять — покажет, она дело знает!»
Записал он что-то: «Ну, душа за нами!»
Грянулся об землю, забренчал костями,
Вихрем закрутился и пропал, как пена.
А мужик свалился, рассадив колено,
Плюнул вслед злодею, думал откреститься,
Да взамен трехперстья сложил трижды фигу,
Видно, черт зачислил его душу в книгу…
Поутру завистник пред восходом рано
К ведьме в лес помчался, как на вызов пана.
Вон уж недалеко дом на курьих ножках,
Зашагал потише — знать, струхнул немножко.
Вдруг, невесть откуда, вроде злой метели,
Воронье, сороки, совы налетели;
Да как стали каркать, голосить, смеяться, —
Отступил завистник — может, не соваться?
Размахнулся камнем, чтоб сорвать хоть злобу,—
Хвать что было мочи сам себя же по лбу!
Затряслись от смеха камни все на поле.
Тут мужик взбесился, заревел от боли
И давай со злости их топтать лаптями;
Оглянулся — ведьма, что мешок с костями!
А она как гаркнет вдруг в воронье горло:
«Что еще за немочь к нам сюда приперла?»
— «Дело к вам имею… но в большом секрете…
Я давно пришел бы, каб не ваши дети».
А она, насупясь, смотрит и бормочет:
«Я ждала, но позже, уж быстер ты очень.
Ну, зажмурься крепче, выверни карманы
Да ступай-ка в сенцы, — только без обману!
Повернись там задом, обернись змеею
И пролезь на брюхе в хату под стеною».
Влез завистник этак к старой ведьме в угол,
Глянул, отдышавшись, и сомлел с испуга:
В хате тьма головок птичьих, как на рынке:
Крылышки и ножки, даже половинки;
Та свистит истошно, та пищит, та крячет,
А иная стонет иль протяжно плачет.
Как прикрикнет ведьма Коршуновым басом,
В сатанинской хате всё замолкло разом.
«Ну, скажи, что нужно? Золота? Понятно!
Ты для нас, я вижу, человек приятный».
— «Мне бы только к кладу меж болот добраться,
Ваша милость знает, как за это взяться».
— «Ишь, какой ретивый, больно скоро надо!
Погляжу сначала — стоишь ли ты клада.
Сделай три работы! Коль осилишь пробу —
Клад сполна получишь, а коль нет — хворобу.
Наноси-ка ногтем мне ведро водицы,
После ж из пылинок — что им зря кружиться! —
Столб составь высокий да, как волос, тонкий
И сочти все листья мне в лесной сторонке!»
Может, тут и немчик помогал умело,—
Хитростью ль, обманом, а завистник сделал;
И откуда силы да ума в нем стало,—
Всё исполнил чисто, что ни загадала.
Ведьма его хвалит, гладит по макушке,
Подала покушать в старой черепушке —
Вроде как яишню да с совиным сальцем,
И сама же кормит, в рот пихает пальцем.
А потом сказала: «Раз тебе запала
Жадность к деньгам в душу — ночью на Купалу
В лес иди, но помни, чтоб ни брех собачий,
Ни петушьи крики, ни люди тем паче
Не были помехой… В папортнике сядешь,
Платочек расстелешь, хорошо разгладишь,
А там жди полночи… Расцветет цветочек —
Вмиг стряхни его ты с ветки на платочек,
Завяжи получше. Если не сплошаешь,
Быть тебе богатым — где тот клад, узнаешь.
Только слушай, парень, чтоб ты не крестился
И назад ни разу не оборотился!»
Вот мужик дождался кануна Купалы,
В лес с утра забрался — зорька чуть блистала.
Выспался он за день, вечером умылся…
Расстелил тряпицу, да и ждет полночи,
Уперев столбами в папоротник очи…
Вдруг мышей летучих замелькала стая,
Кружатся, крылами чуть не задевая;
Зашипели гады, совы закричали,
Волки заунывный вой в лесу подняли.
Темный лес трясется, и мужик наш тоже.
Но осилил страх он, понемногу ожил.
Сделалось всё тихо — на кладбище вроде.
Вновь очей завистник со стебля не сводит.
Ветерок гуляет, листья овевая.
Вдруг встряхнулась ветка, словно как живая,
В тот же миг во мраке распустился цветик,
Засиял, играя, будто солнце светит.
Тут мужик скорее завернул в тряпицу
Цветик тот и к дому полетел, как птица.
Уж ему отныне всё известно было,
Что от глаз таила нечистая сила:
Речь зверей, откуда влага в реках льется,
Что на белом свете из чего берется,
Быть ли ветру, месяц скоро ль народится,
Кто кого где встретит, с кем что совершится;
Мог оборотить он себя и любого
Хоть во что захочет, лишь бы не в святого;
Надоить из дуба молока кадушку,
Воду сделать водкой, а валун — подушкой.
Пожелает — дохнет скот от злого ока,
Знал, где скрыты клады, как бы ни глубоко.
Мог лечить безумных, кровь унять с полслова,
Боль снимать зубную и чужие ковы,
И умел колосья закрутить жгутами
Иль развить, коль порча наслана врагами.
Стал такой премудрый — свет аж удивлялся:
Где это завистник разуму набрался?
Одного не знал он, сидя у окошка, —
Как вот заработать хлеба хоть немножко.
Взял мужик под мышку топор и лопату,
В лес идет без страха клад отрыть богатый.
Вот забрался в чащу, где огонь являлся,
Ковырнул лопатой — холм вдруг зашатался,
И, как грудь живая, земля застонала
Жалостливо, тяжко, будто умирала.
А медведи, волки, кошки и собаки,
Жабы и гадюки, зверь без счету всякий —
Разом закричали, а за ними пташки,—
У него по коже аж пошли мурашки,
Пот ручьем полился, волос встал щетиной,
А он знай копает, весь измазан глиной.
Малость приутихло; после — снова крики,
Сабли зазвенели, забряцали пики,
Слышны барабаны, и кричат солдаты:
«Лови, руби ноги! Чтоб не шел до хаты!»
А мужик копает, будто глух он сроду.
Тут карета мчится — чуть не сшибла с ходу.
А за ней другие с гиком налетают,
Кучера́ кнутами щелкают, пугают.
А он всё копает, словно как нанялся.
А когда и этим чарам не поддался,
Из болота столько змей повыползало —
Лезут прямо в очи, выпускают жала.
Но мужик всё терпит, дела не бросает,
Ровно их не видит, ничего не знает.
Оборотни, дивы, ведьмы, вурдалаки
Собрались, зубами щелкают во мраке,
Отовсюду нечисть злая налезает,
Дьяволы гогочут, а мужик копает.
Асессоров, сотских, урядников — туча,
Примчались, грозятся, а кто плеткой учит.
Он же без оглядки роет, — пусть, мол, злятся.
Клад и показался — некуда деваться!
Котелок, что кадка, скован обручами.
Обухом как треснул — скрепы забренчали,
Речкой полилися новые дукаты;
Поглядел завистник: «Ну, теперь богатый!»
Торопясь, без счету в свой мешок их осыпал.
Навалил на плечи, с радости захлипал,
И земли не чует от счастья такого…
А за ним погоня, землю рвут подковы,—
И всё ближе, ближе, тяжко дышат кони,
Вот уже осталось, может, меньше гони.
Золото — в лисички, а себя — в колоду
Обратил он мигом и пропал как в воду.
Вмиг сюда арапы с воем налетели —
Саблями махают, так что лбы вспотели.
Не нашли и следа мужика с деньгами —
Так завистник ловко скрылся между пнями.
Сбившись, постояли, носом покрутили
И назад, как блохи, молча затрусили.
Вновь приняв свой образ и забрав дукаты,
Полетел завистник через лес заклятый.
А на полдороге вдруг опять погоня:
Гикают, стреляют — лес гудит и стонет.
Мчат к нему татары в малахаях лисьих,
Вместо глаз — булавки на скуластых лицах.
Мужика увидев, люто завизжали.
Расстелились кони… Всё же не догнали.
Мужик — верть! — стал дубом, деньги сделал роем,
А мешок свой — ульем. Вышло и такое!
Чмокают татары. Вновь пропал как в воду!
Один молвит: «Надо ж хоть отведать меду!»
Как пошли тут пчелы на коней кидаться —
Еле люди сели, чтоб назад убраться.
Побежал завистник. У села родного
Слышит — загудело: кто-то мчится снова.
Палаши кривые, острые, что бритвы, —
То гналися турки. Как на поле битвы
Злы, в зубах кинжалы, головы обриты,
Брови как усища, а глаза несыты.
Мужик бросил камень. Где он прокатился —
Там поток глубокий широко разлился;
Видят: челн причален, верши на дне речки,
Карасей полно в них. Встали, как овечки,
И никак не могут разгадать, дурные,
Что тот челн — завистник, рыбы ж — золотые!
Турки повернули, а мужик дал тягу.
Кто-то из соседей вдруг окликнул скрягу
Возле самой хаты: «Эй, беги потише,
Поделись со мною, нехристь ты бесстыжий!»
Вытерпел и это, бесу не поддался;
На порог ступил уж, за щеколду взялся,
Тут мешок проклятый треснул, разорвался —
Брызнули дукаты так, что загремело.
Задрожал завистник, кровь похолодела;
Оглянулся — видит: черт стоит, смеется,
Дразнит и хохочет, за бока берется.
Будто сноп тяжелый мужик повалился
И с росою только утром пробудился.
Первым долгом глянул — а дукаты целы?
И развесил губы, стоит ошалелый:
Щепки, только щепки, денег же не стало.
А душа за чары ни за что пропала!
Папоротник тоже потерял он где-то,
И отшибло память. Разом в утро это
Стал таким нескладным — трех не сосчитает,
Всяк его в деревне дурнем называет.
Вот как человека жадность загубила.
Ничего нет лучше, как свой грошик милый.
А коль ты хороший человек на свете —
Проживешь в здоровье и без денег этих!
ГДЕ ЧЕРТ НЕ СМОЖЕТ, ТУДА БАБУ ПОШЛЕТ