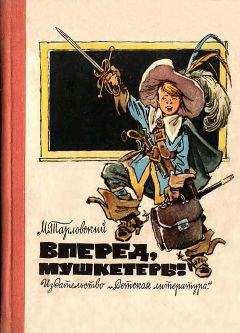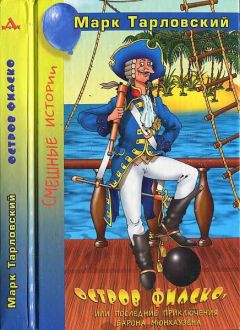Марк Тарловский - Молчаливый полет
Июнь 1921 — декабрь 1925
Памяти Александра Блока[144]
— «Скончался Александр Блок»… —
Безумная рука писала,
И горечи слепое жало
Безумствовало между строк…
Высокий ставленник над нами,
Он — с пламенным лицом своим —
Мечтать за ромом золотым
Был вправе о Прекрасной Даме!
Да, мог он — незнакомец сам —
Следить над балыком и семгой
За царственною Незнакомкой,
Скользящею по кабакам;
Недаром он — хмельной и грешный —
Надеялся, что — прям и скор —
Неумолимый командор
За ним придет из тьмы кромешной,
И, удаляясь навсегда,
Без ликования и злобы
Возвел на Скифские сугробы
Красногвардейского Христа.
Но перед тем, кто свеж и молод,
Без права скорби — нам — не пасть
И на его святую страсть
Не обменять свой волчий голод.
Так ослепительно, так вдруг,
Как будто вспыхнув новой песнью,
Унес со смертною болезнью
Он свой блистательный недуг;
Унес далече… Не учитель,
Не сверстник наш, не кум, не сват —
Он только самый старший брат —
И нам нельзя в его обитель!
9 августа 1921
Закатные прогулки[145]
За домами — угли кузницы,
Солнце прячется в долине,
Тихо вздрагивает свет —
Святы вечером распутницы,
И Марии Магдалине
Шлет Предвечная привет.
За вечерними прогулками
Скрыты розовые плечи,
Скрыты девичьи уста —
Девы ходят переулками
И горят, горят, как свечи
У любовного креста.
Так по рощам кипарисовым
Шла любимица Господня
В наготе грехов своих —
Не ее ль безумным вызовом
Загораются сегодня
Очи странниц городских?
И серебряные крестики,
Золотясь на нежной коже,
Искупают сладкий грех,
Как ночные провозвестники
Освященных мукой Божьей
Магдалининых утех.
Август 1921
Сизиф[146]
Ошибся я — и не явился в срок,
И тяжкая судьба дана мне.
Наказанный, ворочал в сказке бог
С горы катившиеся камни.
Но как тяжел высокий пламень мой,
Когда, как камень вознесенный,
Колеблется над бедной головой
И падает изнеможенный!
Душа, ты плачешь — труден перевал,
Глухое дно сосет и тянет, —
Душа скользит, гремят обломки скал
И больно босоножку ранят.
Моя тоска — огромный детский мяч, —
Как выкатить его на крышу?
Сизиф, мы дети! Твой ли это плач,
Твои ли жалобы я слышу?
Сентябрь 1921
Америке (отказавшейся от участия в генуэзской конференции)[147]
У лукоморья тихой Генуи
Цветут Колумбовы пределы.
«Земля кругла!» — и в море пенное
бегут по солнцу каравеллы.
Ушел отважный мореплаватель,
И мы не ведаем доныне,
Где будет Индия: на Западе ль
Иль за Гомеровой твердыней?
Но соревнуя с лестью вражьею,
Как нас учила Пенелопа,
За нескончаемою пряжею
Тоскует верная Европа.
Пути веков недаром пройдены —
И, может быть, застыв у румба,
Уж ищут снова первой родины
Глаза заблудшего Колумба!
Апрель 1922
Приморская Москва[148]
На суше душно. С моря ветер дует.
Россия бродит. Россиянин скачет.
Он в очаге: Москва его целует,
Он видит всё и сам он много значит.
Но дух морей над сухопутным градом
Висит незримо, сладкий и тяжелый. —
Откуда он, когда тенистым садом
Здесь пробегает лишь ручей веселый,
Когда здесь помнят новгородский волок,
Когда канат еще визжит бурлацкий,
И по к воде по-азиатски долог,
И дерева шумят по-азиатски?
Москва, Москва! Твои большие дети
К иным путям, к иным ветрам привыкли:
Ушкуйники закидывают сети,
Варяги златом наполняют тигли…
И вот, пришедши по дубам и липам,
Полночный парусник с крестом саженным
Над Красной Площадью ползет со скрипом,
Чтоб утром стать Василием Блаженным.
Декабрь 1922
От смерти[149]
Вождь убит. Мятеж подавлен.
Ветер знамя разорвал.
И диктатором поставлен
Некий черный адмирал.
И запекшиеся знаки
Припечатаны к пыли,
И по площади собаки
Чьи-то кости разнесли.
И, следя за злым и хриплым
Долгим колоколом, мы
Не видали к плазам гиблым
Приближающейся тьмы.
Друг, пойдем! — плащи раздуты —
В этот сумеречный час
Есть блаженные минуты
Лишь сегодня, лишь для нас:
В небо ввинчен купол плавный,
В купол ввинчен тихий свет,
И под аркой архитравной
Милый женский силуэт.
Смерть искуснейшая сводня —
Друг мой, шпаги не готовь:
Нам готовят мир сегодня
И бесплатную любовь! —
Апрель 1923
Эсфири[150]
Звенья неги — косы Эсфири
С ароматом Ливанских кедров,
Кто вас вынес в русские шири,
В чад Москвы и северных ветров?
Помню, помню — в волнах столетий,
Где сливается юг с востоком,
На Босфор сионские дети
В корабле плывут крутобоком.
Но рабов унылую песню,
Скрип и шум купеческих вёсел
На бессольную нашу Пресню
Шалый ветер с неба забросил.
Перед Нилом пустыни знойны,
Перед дебрями жарки степи,
А меж ними — сделки и войны
И знакомства пестрые цепи.
В деревянную шли столицу
Караваны из Ханской ставки
И Эсфирь, как райскую птицу,
Предлагали в разные лавки.
Но не купят — в любви мы горды —
И не станет гаремом терем,
Вместе с данью, хан многоордый,
На войне жену мы отмерим.
И не сбылось — к Ордынским дрогам
Не вернулась ты с татарвою,
Став навеки смуглым ожогом
Под извечно-снежной Москвою.
4 августа 1924
Два Владимира[151]
Се древле пал поганый идол,
Князь красным солнцем лег на Русь,
А тезка рек: «взмутить берусь»,
И Русь иным перунам выдал.
Он раскрестил и отогнал
Тысячелетнюю химеру,
Народу дал иную веру,
А Русь переименовал.
Я думал, Ленин — это имя…
Но что нам имя? — звук пустой!
Был дикий князь, а стал святой
Равноапостольный Владимир.
21 февраля 1925
Телефон[152]
Тьма усиливает звуки
— Физика первооснова —
Каплет ласковое слово
На протянутые руки —
Я готов и ты готова
К восприятию науки.
Вот у нитей телефона
Потеряется рассудок,
И, как ночь на грани суток,
В вихре ласкового звона
Многоверстный промежуток
Растворится изумленно.
Что еще на бедном свете
Возмутительней и слаще,
Чем звонок, благовестящий
О вниманьи и привете
И архангелом гудящий
В этом темном кабинете?
1 марта 1925
Безбожник[153]
Сутулится бог темноликий,
Лампадные тени погасли,
И с шипом, как змий двуязыкий,
Фитиль издыхает на масле.
И скучно больному ребенку
В потемках натопленной спальной
Смотреть на слепую иконку,
Следить за лампадой печальной.
Он знает, он слышал от папы,
Что боги — пустые лгунишки
И даже поломанной лапы
Не могут поправить у мишки.
Как жалко, что вера упряма,
Что верят и бабы и дамы,
Как некогда мамина мама
И бабушка маминой мамы.
А ночью становится тяжко
И мнится в удушьи болезни —
Взята из лампады ромашка,
Из церкви — мамусины песни.
— Ты, боженька, нечисть и копоть…
За то, что в тебя я не верю,
Ты ждешь моей смерти, должно быть,
За этою самою дверью…
2 марта 1925