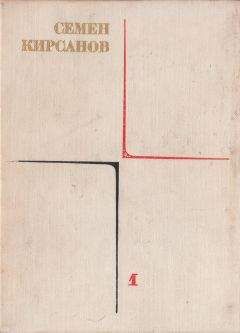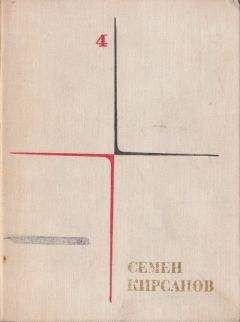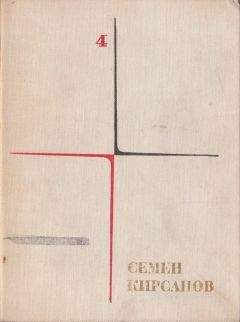Семен Кирсанов - Лирические произведения
«На самолете я летел…»
На самолете
я летел,
на лодочке
непрочной.
В полете
жадно я хотел
стоять
на твердой почве.
На твердой почве
без грозы
и в комнате
без горя, —
хотелось мне
рвануться в зыбь
заоблачного моря.
И вот опять
в полете я,
и вновь
мотору внемлю,
и снова к вам
тянусь,
друзья,
на дорогую землю!
Как ищет,
приземляясь,
мысль
где для нее
страница,
так сердцу
требуется высь,
чтобы к земле
стремиться.
МЕСЯЦЫ ГОДА
Ты любишь
ледяной январь,
безветрье, стужу зверскую,
а я —
лютующий февраль,
метель, поземку дерзкую.
Ты любишь
ранний месяц март
с апрельскими проталинами,
а я —
молнирующий май
с дождями моментальными.
Ты любишь
облачный июнь,
в просторе многоярусном,
а я —
сжигающий июль
и август — солнце в ярости!
Ты любишь
бархатный сентябрь
с его зеленым золотом,
а я —
когда несет октябрь
штыки дождя по городу.
Ты любишь
краски в ноябре,
свинцовые сливовые,
а я —
декабрь,
ведь в декабре
год переходит к новому.
Да,
я любитель декабря
на снежно-белых улицах,
за то,
что с первым января
он, чокаясь, целуется.
И бой
на башенных часах,
и в полночь — у́тру здравица!
И каждый
к будущему шаг —
мне очень, очень нравится!
ЦВЕТОК
Позволь мне подарить тебе
простой цветок —
гвоздичку,
похожий в комнатном тепле
на вспыхнувшую спичку.
Он ярко распустился
тут —
перед окном,
в стакане.
Какой в нем чувствуется труд,
терпенье
и старанье!
Как он красуется,
живой,
гордясь своей породой,
как точно
зубчики его
нарезаны Природой!
Как тщательно
один в другой
махровый листик вделан!
Какой влюбленною рукой
он ловко вставлен
в зелень!
Пусть он известен,
как цветок
тепличный и петличный,
но я
его ценю
за то,
что выполнен отлично;
что учит он
меня и вас
терпенью в час работы,
какое есть
и посейчас
у тружениц Природы.
ПИСЬМЕНА
Нам понятна рукописей жизнь.
Древние писали сверху вниз,
пишем мы горизонтальной строчкой,
свой рассказ заканчивая точкой.
Лишь деревья пишут все вокруг,
людям не показывая рук,
пишут круговыми письменами,
вовсе не изученными нами.
Летописец дерева в стволе
пишет, как на письменном столе;
он сучки обводит, как виньетки,
он по кругу вьет свои заметки
о зиме и лете, смене дней,
о глубоких замыслах корней.
Дневники свои ведут деревья,
ни к кому не чувствуя доверья.
Пишут, сколько лет им, как жилось,
как о ствол однажды терся лось;
строки есть на свернутых страницах
о садившихся на ветви птицах,
о дупле, о рое новых пчел
и о том, как дровосек прошел
по тайге серебряно-полярной
со своей пилою циркулярной.
Но не знает ствол высокомерный
о машинах фабрики фанерной.
Там ножом сияющим раскрыт
древний, но понятный манускрипт.
Говорит карельская береза
о дождях, о зное, о морозах,
записи подробные, по дням,
заповеди веткам и корням,
правила для распусканья почек,
и по кругу выписанный очерк,
что за лес и какова гроза,
и в морщинах мудрости — глаза
дерева, прожившего два века
перед юным взглядом человека.
О ПРОСТОТЕ
Желанье есть,
мечтанье есть —
быть проще, проще, проще.
Простым-простым,
как пить и есть,
простым, как тропка в роще,
простым,
как дудки голосок,
несложный и нестрогий,
простым,
как сена желтый стог,
как столбик у дороги,
простым,
как ровная черта,
как дважды два четыре…
— Но разве
эта простота
тебя устроит в мире?
Нет,
я желаю быть простым,
как прост комбайн,
понятный
тому,
кто вел его густым
и жарким полем жатвы,
как выбор
в множестве дорог
одной — вполне надежной!
Простым,
как прост
простой итог
работы очень сложной.
Простым,
как двинувшие нас
расчеты пятилеток,
простым,
как прост мой карий глаз
с его мильярдом клеток…
Ведь простота,
она не ждет,
не топчется на месте,
а в вузе учится,
растет
со всем народом вместе.
ПРОИСШЕСТВИЕ
Ах, каких нелепостей
в мире только нет!
Человек в троллейбусе
ехал,
средних лет.
Горько так и пасмурно
глядя сквозь очки,
паспортную карточку
рвал он
на клочки.
Улетали в стороны
из окна — назад
женский рот разорванный,
удивленный
взгляд…
Что ж такое сделано
ею или им?
Но какое дело нам,
гражданам
чужим?
С нас ведь и не спросится,
если даже он
выскочит и бросится
с горя
под вагон.
Дело это — личное.
Хоть под колесо!
Но как мне безразличное
сохранить
лицо?
Что же мы колеблемся
крикнуть ему: «Стой!»
Разве нам в троллейбусе
кто-нибудь —
ни свой?
«Шла по улице девушка. Плакала…»
Шла по улице девушка. Плакала.
Голубые глаза вытирала.
Мне понятно — кого потеряла.
Дорогие прохожие! Что же вы
проскользнули с сухими глазами?
Или вы не теряете сами?
Почему ж вы не плачете? Прячете
свои слезы, как прячут березы
горький сок под корою в морозы?..
ОДНА ВСТРЕЧА
Я утром проснулся.
Был воздух зимы — перламутр.
Тебя я увидел
глазами, смотревшими внутрь.
В себе я увидел тебя —
ты сияла внутри
и мне улыбалась,
и мне говорила:
«Смотри:
теперь не в себе я живу,
а в тебе —
я твоя…»
Но это, как видно,
в то утро ослышался я.
Тебя, тебя
мне нужно до зарезу,
чтоб приютить
мое метеоритное железо,
несущееся
к молодой планете —
к тебе, Земле,
единственной на свете!
Хладеют
и сжимаются светила,
и луны образуются
из звезд,
так и любовь —
она сейчас скатилась
кометным небом, волоча свой хвост
мимо Земли, прекрасной, нежной сушей
прильнувшей к Океану и уснувшей…
Позволь ты мне
иметь воздушный замок,
чтоб побродить
в его воздушных залах,
где будем мы,
покинув город душный,
сидеть вдвоем
и есть пирог воздушный.
Не в замке мы,
не бродим, не пируем…
Я разве сыт
воздушным поцелуем,
я разве рад,
что в небо над бульваром
любовь летит
воздушным детским шаром?
Горы мрака
и мокрого мела
через душное небо таща,
погрозилась гроза,
погремела
и ушла без дождя,
только молнией
ломкой и скорой
на ходу кое-где посветив…
Так и эта любовь,
у которой
никаких перспектив.
Дорогая,
мой милый читатель,
в этот день грозовой духоты,
о, как ливень
пришелся бы кстати, —
понимаешь ли ты?
Я просил
(так ведь было же!):
правду вынь да положь!
Ты смолчала
и выложила
ярко-желтую ложь.
Что положено —
принято.
Хорошо.
Я готов.
Но дарить ведь не принято
лживых,
желтых цветов?
Это было не мыслями,
это было не чувствами —
чувства
были немыслимы,
мысли были бесчувственны.
Это было не зрением,
а скорей — подозрением,
что теперь уже прошлое,
так сказать,
дело прошлое.
Ляжешь, сядешь, подумаешь:
ждать ответа?
Подумаешь!
Если даже останемся —
все равно —
мы останемся
жить, друг другом забытые,
словно вещи забытые.
Это было сознание,
что душа без сознания.
Есть такое слово:
«заго́илось».
Это значит:
боль, что была,
не прошла и не успокоилась,
а в привычку как-то вошла.
Рана вроде и безобидная,
можно долго терпеть, не крича.
Но привычка —
вещь незавидная, —
как курение по ночам.
Сердце
обрывается мое:
в поле —
порыжевшее жнивье,
в роще —
листья желтые летят,
их перед отлетом
золотят.
Солнце
начинает холодеть,
можно
его в золото одеть,
с ним уйти за горизонт,
туда —
в сумрак,
в остыванье,
в никогда.
Помню я
светлеющий восток,
помню
зеленеющий листок,
поле,
где колосьями по грудь
заслонен
теряющийся путь,
и вдали,
у рощицы,
ее…
Сердце
обрывается мое.
ЭТОТ МИР