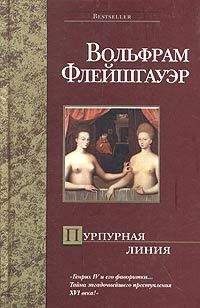Джон Донн - Стихотворения и поэмы
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ МИССИС БОУЛСТРЕД
Речь, ты бессильна облегчить нам муки:
Скорбь не владеет словом. Если б звуки
Из глаз текли, как слезы, – сей поток
Избытку горя дать бы выход смог.
А чем безмолвней сердце, тем больнее
Его печаль; так худшие злодеи
В суде всех тише: им мертвит уста
Отчаянья глухого немота.
О Скорбь, царица пятой из империй,
Зачем, двойной карая нас потерей,
Сразила ты царицу всех сердец —
Затем ли, чтоб пополнить свой венец?
Ты, как потопа гибельная сила,
И близких, и далеких захватила.
Но прежде завладев ее душой,
Зачем, о Скорбь, сровняла ты с землей
Ее обитель? Кабы в ней жила ты,
Всяк был бы счастлив на твои палаты
Взглянуть, на дивный свет ее очей:
И впрямь рождался день от их лучей.
Она сияла, как сапфир прозрачный, —
Ты ж глину предпочла и камень мрачный.
Она была хрупка и все ж тверда,
Но и кристаллы бьются иногда.
Ты просчиталась, Скорбь: с ее кончиной
Мы все из-под руки твоей бесчинной
Прочь ускользнем, мятежные рабы,
Своей нимало не кляня судьбы.
Умрем ли с горя – нам того и надо:
Жизнь без нее – невелика отрада.
Останемся ли жить – о ней тоска
Нам пуще прежней радости сладка.
Она для нас являла воплощенье
Всех добродетелей без исключенья.
Ее душа была как райский сад,
Где Милосердье – верный страж у врат,
Куда не вхож порок; лишь смерть сумела
Пробраться к древу и докончить дело.
Должно быть, Бог забрал ее с земли,
Чтоб возлюбить ее мы не смогли
Превыше Неба, – и о нас радея,
Он наши помыслы возвысил с нею,
А не забрал бы – праведников строй
Еще одной пополнился б святой.
В ее груди, как куст неопалимый,
Пылало сердце верой негасимой,
И набожности путь являя нам,
Шла в праздник не на пир она, но в храм,
Душой пиры иные предвкушая
И светлый праздник без конца и края.
Теперь, на небеса вознесена,
Она верховным ангелам равна,
А тело здесь оставлено, чтоб ныне
Ее бессмертной не сочли богиней:
Красы и добродетели такой
Язычникам хватило бы с лихвой.
Земля, что тянет к ней свой зев голодный,
Лемнийской глиной станет благородной,
Гроб вечным древом прорастет над ней,
Хранящим клад заветный меж корней,
А мы разделим горе по кусочку,
Его снести не в силах в одиночку.
Поэмы
МЕТЕМПСИХОЗ, ИЛИ ПУТЬ ДУШИ
Poema Satyricon
INFINITATI SACRUM*,
16 Augusti 1601
ПРЕДИСЛОВИЕИные над порталами и дверями своих домов помещают гербы, я же свой портрет, ежели только краски могут передать ум столь простой, незамысловатый и бесхитростный, каков есть мой. Обычно перед новым автором я прихожу в сомнение, медлю и не умею тотчас сказать, хорош ли он. Я строго сужу и многое осуждаю; таковой обычай обходится мне дорого в том, что мои собственные писания еще хуже чужих. Не могу, однако, ни столь противуречить своей натуре, чтобы вовсе не делать того, что мне нравится, ни быть столь несправедливым к другим, чтобы делать это sine talione*. Пока я даю им случай отплатить мне тем же, они, верно, простят мне мои укусы. Никому не возбраняю порицать меня, исключая лишь тех, что, как Тридентский собор*, осуждают не книги, а авторов, предавая проклятию все, что такой-то написал или напишет. Никто не пишет столь плохо, чтобы однажды не сочинить нечто образцовое – для подражания или избежания. Приступая к сей книге, не собираюсь ни к кому входить в долг; не знаю, сохраню ли сам свое достояние; может быть, растрачу, а может быть, и преумножу в обороте, ибо, если я одолживаю у древности, кроме того, что я намерен уплатить потомству тем же добром и тою же мерой, притом же, как вы увидите, не премину упомянуть и поблагодарить не токмо того, кто выкопал для меня сокровище, но и того, кто осветил мне к нему дорогу*. Прошу вас лишь припомнить (ибо я не желал бы иметь читателей, которых я могу поучать), что, согласно Пифагорову учению, душа может переходить не только от человека к человеку или же скоту, но равномерно и к растениям; ради того не удивляйтесь, находя одну душу в императоре, в почтовой лошади и в бесчувственном грибе*, так как не ущерб душевный, а одно только нерасположение органов творит сие*. И хотя душа, обретаясь в дыне, не может ходить, зато может помнить, а запомнив, поведать мне, за каким роскошным столом ее подавали. А обретаясь в пауке, не может говорить, но, запомнив, может мне поведать, кто употребил ее паучий яд ради сана своего или чина. Как бы ни мешала телесность другим ее способностям, памяти она не препятствует; потому я и могу ныне, с ее слов, доподлинно поведать вам о всех ее странствиях – от самого дня сотворения, когда она была яблоком, прельстившим прародительницу нашу Еву, до нынешних времен, когда она стала той, чью жизнь вы найдете в конце сей книги*.
IПою души бессмертной путь земной
В обличьях многих, данных ей судьбой,
От райского плода до человека.
Пою миров младенческий рассвет,
И зрелый день, и вечер дряхлых лет —
С того халдеев золотого века,
Что персов серебром и медью грека
Сменился, и железом римских пик.
Мой труд, как столп*, воздвигнется велик,
Да перевесит он все, кроме Книги книг.
Не возгордись могуществом своим
Пред нею, о небесный Пилигрим,
Зрачок небес*, блуждающий над миром;
Ты утром пьешь Востока аромат,
Обедаешь средь облачных прохлад
Над Сеной, Темзой иль Гвадалквивиром
И в Эльдорадо день кончаешь пиром:
Не больше стран ты видел с высоты,
Чем та, что до тебя пришла из темноты
За день – и будет жить, когда погаснешь ты*.
Скажи, священный Янус, что собрал
На корабле своем (он был не мал)
Всех птиц, зверей и ползающих тварей,
Вмещал ли твой странноприимный бот,
В котором спасся человечий род,
Садок вождей, вельмож и государей,
Плавучий храм твой, хлев, колледж, виварий* —
Так много тел, шумящих вразнобой,
Как эта искра горняя собой
Живила – и вела дорогою земной?
Судьба, наместник Божий на земле,
Никто не видел на твоем челе
Морщин улыбки праздной или гнева;
Зане ты знаешь сроки и пути —
Молю, открой страницу и прочти*,
Какой мне плод сулит Познанья Древо,
Чтоб, не сбиваясь вправо или влево,
Я шел по миру, зная наперед,
Куда меня рука небес ведет
И что меня в конце паломничества ждет.
Шесть пятилетий жизни промотав,
Я обещаю свой сменить устав,
И если будет Книга благосклонна
И мне удастся избежать сетей
Плотских и государственных страстей,
Цепей недуга и когтей закона,
Ума растраты и души урона
Не допущу, чтобы, когда впотьмах
Могила примет свой законный прах,
Достался ей в мужья муж, а не вертопрах.
Но если дни мои судьба продлит,
Пусть океан бушует и бурлит,
Пусть бездна неизвестностью чревата —
Один, среди безмерности морей,
Я проплыву с поэмою моей
Весь круг земной, с Востока до Заката,
И якорь, поднятый в струях Евфрата,
Я брошу в Темзы хладную волну
И паруса усталые сверну,
Когда из райских стран до дома дотяну.
Узнайте же: великая душа,
Что ныне, нашим воздухом дыша,
Живет – и движет дланью и устами,
Что движут всеми нами, как Луна —
Волной*, – та, что в иные времена
Играла царствами и племенами,
Для коей Магомет и Лютер сами
Являлись плоти временной тюрьмой, —
Земную форму обрела впервой
В Раю, и был смирен ее приют земной.
Смирен? Нет, славен был, в конце концов,
Когда верна догадка мудрецов,
Что Крест, кручина наша и отрада,
На коем был пленен Владыка Сил,
Что, сам безгрешный, все грехи вместил,
Бессмертный, смерть испил, как чашу яда,
Стоял на том заветном месте Сада*,
Где волею священной был взращен
Плод – и от алчных взоров защищен,
В котором та душа вкушала первый сон.
Сей плод висел, сверкая, на суку,
Рожденный сразу зрелым и в соку,
Ни птицею, ни зверем не початый;
Но змей, который лазил в старину,
А ныне должен за свою вину*
На брюхе ползать, соблазнил, проклятый
(За что мы ныне платим страшной платой),
Жену, родив, сгубившую свой род,
И муж за ней вкусил коварный плод:
Возмездье было в нем – хлад, смерть
и горький пот*.
Так женщина сгубила всех мужчин* —
И губит вновь, от сходственных причин,
Хотя по одному. Мать отравила
Исток, а дочки портят ручейки
И, возмутив, заводят в тупики.
Утратив путь, мы вопием уныло:
О судьи, как же так? она грешила —
А нас казнят?* Но хуже казней всех
Знать это – и опять влюбляться в тех,
Что нас влекут в ярмо, ввергают в скорбь и грех.
Отрава проникает в нас всерьез,
И уж дерзаем мы задать вопрос
(Кощунственный): как это Бог поставил
Такой закон, что Божья тварь его
Могла переступить? И отчего
Невинных он от мести не избавил?
Ни Ева же, ни змей не знали правил*,
И нет того в Писанье, что Адам
Рвал яблоко* иль знал, откуда там
Оно взялось. Но казнь – ему и ей, и нам.
А впрочем, сохрани, небесный Дух,
От суетного повторенья вслух
Дум суемудрых – пусть они уймутся;
Как шалуны, что тешатся порой
Летучих мыльных шариков игрой,
Их вытянув тростинкою из блюдца,
Они всенепременно обольются.
А спорить попусту с еретиком —
Как ветер к мельнице носить мешком:
Покончить дланью с ним верней, чем языком.
Итак, в сей миг, когда коварный змей,
В тот плод вцепившись лапою своей,
Порвал сосуды нежные и трубки,
Его питавшие и тем лишил
Ребенка сока материнских жил, —
Душа умчалась прочь, быстрей голубки
Иль молнии (тут все сравненья хрупки),
И в темный, влажный улетев овраг,
Сквозь трещины земные*, как сквозняк,
Проникла в глубь – и там вселилась в некий
Злак.
И он, еще не Злак, а Корешок,
Очнувшись, вырос сразу на вершок
И дальше стал пихаться и стремиться;
Как воздух вытесняется всегда
Водой, так твердым веществом вода,
И уступила рыхлая темница.
Так у дворца порой народ стеснится:
Монархиню узреть – завидна честь,
В толпе и горностаю не пролезть;
Но крикнут: «Расступись!» – и вот уж место
есть.
Он выпростал наружу две руки —
И расщепились руки-корешки
На пальцы – крохотней, чем у дитяти*;
Пошевелил затекшею ногой
Чуть-чуть – сперва одной, потом другой,
Как лежебока на своей кровати.
Он с первых дней был волосат – и кстати:
Была ему дана двойная власть*
В делах любви (и благо, и напасть) —
Плодами разжигать, гасить листами страсть.
Немой, он обладал подобьем рта,
Подобьем глаз, ушей и живота,
И новых стран владетель и воитель,
Стоял, увенчан лиственным венком
С плодами ярко-красными на нем,
Как стоя погребенный победитель
В могиле. Такова была обитель
Души, что ныне обреталась тут —
В сем корне мандрагоровом приют
Найдя; не зря его, как панацею, чтут.
Но не любви теперь он жертвой стал:
Младенец Евин по ночам не спал,
Не просыхал от слез ни на минутку;
И Ева, зная свойства многих трав,
Решила, мандрагору отыскав,
Отваром корня исцелить малютку.
Такую с нами Рок играет шутку:
Кто благ, тот умирает в цвете лет*,
Сорняк же, от которого лишь вред,
Переживает всех – ему и горя нет.
И так душа, пробыв три дня подряд
В подземной тьме, где звезды не горят,
Летит на волю, жмурясь с непривычки;
Но провиденья жесткая рука
Вновь: цап! – ее хватает за бока
И заключает в беленьком яичке,
Доверив хлопотливой маме-птичке
Сидеть над гнездышком, пока отец
Приносит мух, и ждать, когда птенец
Проклюнет скорлупу и выйдет наконец.
И вот на свет явился Воробей*;
На нем еще, как зубки у детей,
Мучительно прорезывались перья;
В пушку каком-то, хлипок, некрасив,
Голодный клюв свой жалобно раскрыв
И черным глазом, полным недоверья,
Косясь вокруг, он пискнул: мол, теперь я
Хочу поесть! Отец, взмахнул крылом
И кинулся сквозь ветки напролом
Скорей жучков ловить, носить добычу в дом.
Мир молод был; все в нем входило в сок
И созревало в небывалый срок;
И вот уже наш прыткий Воробьенок
В лесу и в поле, где ни встретит их,
Без счета треплет глупых воробьих,
Не различая теток и сестренок;
И брошенные не пищат вдогонок,
Пусть даже он изменит без стыда
На их глазах – и это не беда:
Уж я себе, дружок, дружка найду всегда.
В те дни не ограничивал закон
Свободу в выборе мужей и жен*;
Душа, в своей гостинице летучей,
И тело, радуясь избытку сил,
Резвятся, расточая юный пыл
И за вихор хватая всякий случай;
Но день пришел расплаты неминучей;
И впрямь – тот живота не сбережет,
Кто на подружек тратит кровь и пот:
Три года не прошло, как он уже банкрот*.
А мог бы жить да жить! В те времена
Еще не знали, как на горсть пшена
Словить коварно мелкого жуира;
Еще не выдумали ни силков,
Ни сеток, ни предательских манков,
Что губят вольных жителей эфира.
Но предпочел он с жизненного пира
Уйти до срока, промотав, как клад,
Три года, чем пятнадцать лет подряд
Жить, заповеди чтя, плодя послушных чад.
Итак, едва наш резвый Воробей
Отпрыгался, Душа, еще резвей,
Умчалась к ближней речке неглубокой,
Где на песчаной отмели, у дна,
Икринка женская оживлена
Была мужской кочующей молокой;
И вот, былою утомясь морокой,
Душа вселилась в кроткого малька,
Расправила два гибких плавничка
И погребла вперед, как лодочка, легка.
Но тут, как бриг на полных парусах,
Свой образ в отраженных небесах
Следя – и шею гордо выгибая,
Прекрасный Лебедь мимо проплывал,
Он, мнилось, все земное презирал*,
Белейшей в мире белизной блистая:
И что ему рыбешек низких стая?
И вдруг – малек наш даже не успел
Моргнуть, как в клюв прожорливый влетел:
Бедняга, он погиб – хотя остался цел.
Тюрьма Души теперь сама в тюрьме,
Она должна в двойной томиться тьме
На положении вульгарной пищи;
Пока лебяжьего желудка пыл
Ограды внутренней не растопил:
Тогда, лишившись своего жилища,
Она летит, как пар, – и снова ищет
Пристанища, но выбор небогат;
Что рыбья жизнь? Гнетущ ее уклад:
За то, что ты молчишь, тебя же и едят.
И вот рыбешка-крошка – новый дом
Души – вильнула маленьким хвостом
И поплыла, без видимых усилий,
Вниз по дорожке гладкой, водяной —
Да прямо в сеть! – по счастью, с ячеёй
Широкой, ибо в те поры ловили
Лишь крупных рыб, а мелюзгу щадили;
И видит: щука, разевая пасть,
Грозит и хочет на нее напасть
(Сама в плену), но злых не учит и напасть.
Но вовремя пустившись наутек
(Наказан в кои веки был порок!),
Двойного лиха рыбка избежала*,
Едва дыша; а чем дыша – как знать?*
Выпрыгивала ль воздуха набрать
Иль разряженною водой дышала
От внутреннего жара-поддувала —
Не знаю и сказать вам не рискну…
Но приплыла она на глубину,
Где встретил пресный ток соленую волну.
Вода не столь способна что-нибудь
Скрыть, как преувеличить и раздуть*;
Пока рыбешка наша в рассужденьи,
Куда ей плыть, застыла меж зыбей, —
Морская Чайка*, углядев трофей,
Решила прекратить ее сомненья
И, выхватив из плавного теченья,
Ввысь унесла: так низкий вознесен
Бывает милостью больших персон —
Когда персоны зрят в том пользу и резон.
Дивлюсь, за что так ополчился свет
На рыб? Кому от них малейший вред?
На рыбаков они не нападают,
Не нарушают шумом их покой;
С утра в лесу туманном над рекой
Зверей в засаде не подстерегают
И птенчиков из гнезд не похищают:
Зачем же все стремятся их известь —
И поедом едят – и даже есть
Закон, что в Пост должны мы только рыбу есть?*
Вдруг сильный ветер с берега подул,
Он в спину нашу Чайку подтолкнул
И в бездну бурную повлек… Обжоре
Все нипочем, пока хорош улов, —
Но слишком далеко от берегов
Ее снесло: одна в бескрайнем море,
Она в холодном сгинула просторе.
Двум душам тут расстаться довелось —
Ловца и жертвы – и умчаться врозь;
Последуем за той, с кого все началось.
Вселившись снова в рыбий эмбрион,
Душа росла, росла… раз в миллион
Усерднее, чем прежде, и скорее —
И сделалась громадою такой,
Как будто великанскою рукой
От Греции отторжена Морея
Иль ураган, над Африкою рея,
Надежный Мыс отбил одним толчком;
Корабль, перевернувшийся вверх дном,
В сравненье с тем Китом казался бы щенком.
Он бьет хвостом, и океан сильней
Трепещет, чем от залпа батарей,
От каждого чудовищного взмаха;
Колонны ребер, туши круглый свод
Ни сталь, ни гром небесный не пробьет;
Дельфины в пасть ему плывут без страха,
Не зря препон; из водяного праха
Творит его кипучая ноздря
Фонтан, которому благодаря
С надмирной хлябью вод связует он моря*.
Он рыб не ловит – где там!* Но как князь,
Который, на престоле развалясь,
Ждет подданных к себе на суд короткий,
Качается на волнах без забот
И все, что только мимо проплывет,
В жерло громадной всасывает глотки,
Не разбирая (голод хуже тетки),
Кто прав, кто виноват: им равный суд.
Не это ль равноправием зовут? —
Пусть гибнет мелюзга, чтоб рос Тысячепуд!
Он пьет, как прорва, жрет, как великан,
Как лужу, баламутит океан,
Душе его теперь простору много:
Ее указы мчат во все концы,
Как в дальние провинции гонцы.
Уж Солнце двадцать раз своей дорогой
И Рака обошло, и Козерога;
Гигант уже предельного достиг
Величия; увы! кто так велик,
Тот гибель отвратить не может ни на миг.
Две рыбы – не из мести, ибо Кит
Им не чинил ущерба и обид, —
Не из корысти, ибо жир китовый
Их не прельщал, а просто, может быть,
Со зла – задумали его сгубить
И поклялись, что не сболтнут ни слова,
Пока не будет к делу все готово —
Да рыбе проболтаться мудрено! —
Тиран же, как не бережется, но
Ков злоумышленных не минет все равно.
Меч-рыба с Молот-рыбою вдвоем
Свершили то, что ждали все кругом;
Сначала Молот-рыба наскочила
И ну его гвоздить что было сил
Своим хвостом; Кит было отступил
Под яростной атакой молотила;
Но тут Меч-рыба, налетев, вонзила
Ему свой рог отточенный в живот;
И окровавилась пучина вод,
И пожиравший тварь сам твари в корм идет.
Кто за него отмстит? Кто призовет
К ответу заговорщиков комплот?
Наследники? Но эти зачастую
Так видом трона заворожены,
Что месть и скорбь забыты, не нужны.
А подданные? Что рыдать впустую,
Коль некому казать печаль такую?
Да не был бы царь новый оскорблен
Любовью к мертвому! – в ней может он
Узреть любви к себе, живущему, урон.
Душа, насилу вновь освободясь
Из плотских уз и все еще дивясь,
Сколь малые орудия способны
Разбить Твердыню, – свой очередной
Приют находит в Мыши полевой,
Голодной и отчаянной. Подобно,
Как нищий люд пылает мыслью злобной
Против господ, чья жизнь услад полна,
Так эта Мышь была обозлена
На всех; и дерзкий план задумала она.
Шедевр и баловень Природы, Слон,
Который столь же мощным сотворен,
Сколь благородным*, не пред кем колена
Не преклонял (поскольку не имел
Колен, как и врагов), зато умел
Спать стоя. Так он спал обыкновенно,
Свой хобот, словно гибкое полено,
Качая, – в час, когда ночное зло,
Проклятое освоив ремесло,
Сквозь щёлку узкую в нутро к нему вползло.
Мышь прошмыгнула в хобот – и кругом
Весь обежав многопалатный дом,
Проникла в мозг, рассудка зал коронный,
И перегрызла внутреннюю нить,
Без коей зверю невозможно жить;
Как мощный град от мины, подведенной
Под стену, рухнул Слон ошеломленный,
Врага в кургане плоти погребя:
Кто умыслы плетет, других губя,
Запутавшись в сетях, погубит сам себя.
И вот Душа, утратив с Мышью связь,
Вошла в Волчонка. Он, едва родясь,
Уж резать был готов ягнят и маток*.
Безгрешный Авель, от кого пошло
Всех пастырей на свете ремесло,
В пасомых замечая недостаток
И чувствуя, что враг довольно хваток,
Завел овчарку по ночам стеречь.
Тогда, чтоб избежать опасных встреч,
Задумал хитрый Волк, как в грех ее вовлечь.
Он к делу приступил исподтишка,
Как заговорщик, чтоб наверняка
Свой план исполнить, как велит наука:
Ползком в кромешной тьме прокрался он
Туда, где, сторожа хозяйский сон,
Спит у палатки бдительная сука,
И так внезапно, что она ни звука
Прогавкать не успела – вот нахал! —
Ее облапил и к шерсти прижал:
От жарких ласк таких растает и металл.
С тех пор меж ними тайный уговор;
Когда он к стаду, кровожадный вор,
Средь бела дня крадется тихомолком,
Она нарочно подымает лай:
Мол, Авель наш не дремлет, так и знай;
Меж тем пастух, все рассудивши толком,
Сам вырыл западню – и с алчным Волком
Покончил навсегда. Пришлось Душе,
Погрязшей в похоти и в грабеже,
Вселиться в тот приплод, что в суке зрел уже.
Примеры есть зачатья жен, сестер;
Но даже цезарей развратный двор,
Кажись, не слышал о таком разврате:
Сей Волк зачал себя же, свой конец
В начало обратив: сам свой отец
И сам свой сын. Греха замысловатей
Не выдумать; спроси ученых братий —
Таких и слов-то нет. Меж тем щенок
В палатке Авеля играл у ног
Его сестры Моав – и подрастал, как мог.
Со временем шалун стал грубоват
И был приставлен для охраны стад
(На место сдохшей суки). Бывши помесь
Овчарки с волком, он, как мать, гонял
Волков и, как отец, баранов крал;
Пять лет он так морочил всех на совесть,
Пока в нем не открыли правду, то есть,
Псы – волка, волки – пса; и сразу став
Для всех врагом, ни к стае не пристав,
Ни к своре, он погиб – ни волк, ни волкодав.
Но им, погибшим, оживлен теперь
Забавный Бабуин, лохматый зверь,
Бродящий от шатра к шатру, – потеха
Детей и жен. Он с виду так похож
На человека, что не враз поймешь,
Зачем ни речи не дано, ни смеха
Красавцу. Впрочем, это не помеха
Тем, кто влюблен. Адама дочь, Зифат*,
Его пленила; для нее он рад
Скакать, цветы ломать и выть ни в склад,
ни в лад.
Он первым был, кто предпочесть посмел
Одну – другой, кто мыкал и немел,
Стараясь чувство выразить впервые;
Кто, чтоб своей любимой угодить,
Мог кувыркаться, на руках ходить
И мины корчить самые смешные,
И маяться, узрев, что не нужны ей
Его старанья. Грех и суета —
Когда нас внешним дразнит красота,
Поддавшись ей, легко спуститься до скота.
В любви мы слишком многого хотим
Иль слишком малого: то серафим,
То бык нас манит*: а виной – мы сами;
Тщеславный Бабуин был трижды прав,
Возвышенную цель себе избрав;
Но не достигнув цели чудесами,
Чудит иначе: слезными глазами
Уставясь ей в глаза: мол, пожалей! —
Он лапой желто-бурою своей*
(Сильна Природа-мать!) под юбку лезет к ней.
Сперва ей невдомек: на что ему
Сие? И непонятно: почему
Ей стало вдруг так жарко и щекотно?
Не поощряя – но и не грозя,
Отчасти тая – но еще не вся,
Она, наполовину неохотно,
Уже почти к нему прильнула плотно…
Но входит брат внезапно, Тефелит;
Гром, стук! Булыжник в воздухе летит.
Несчастный Бабуин! Он изгнан – и убит.
Из хижины разбитой поспеша,
Нашла ли новый уголок Душа?
Вполне; ей даже повезло похлеще:
Адам и Ева, легши вместе, кровь
Смешали*, и утроба Евы вновь,
Как смесь алхимика, нагрелась в пещи, —
Из коей выпеклись такие вещи:
Ком печени – исток витальных сил*,
Дающих влагу виадукам жил,
И сердце – ярый мех, вздувающий наш пыл.
И, наконец, вместилище ума —
В надежной башне наверху холма
Мозг утонченный, средоточье нитей,
Крепящих всех частей телесных связь;
Душа, за эти нити ухватясь,
Воссела там. Из бывших с ней событий
Усвоив опыт лжи, измен, соитий,
Она уже вполне годилась в строй
Жен праведных. Фетх было имя той,
Что стала Каину супругой и сестрой.
Кто б ни был ты, читающий сей труд
Не льстивый (ибо льстивые все врут):
Скажи, не странно ли, что брат проклятый
Все изобрел – соху, ярмо, топор*, —
Потребное нам в жизни до сих пор,
Что Каин – первый на земле оратай,
А Сет – лишь звезд унылый соглядатай,
При том, что праведник? Хоть благо чтут,
Но благо, как и зло, не абсолют:
Сравненье – наш закон, а предрассудок – суд.
ГОДОВЩИНЫ