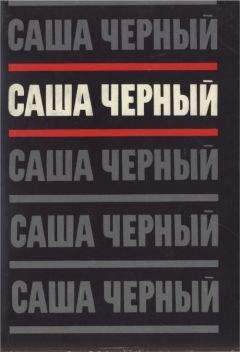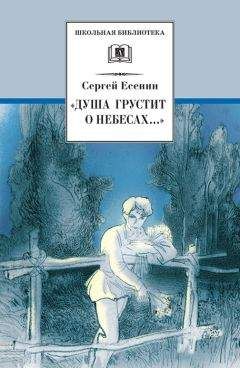Вадим Андреев - Стихотворения и поэмы в 2-х томах. Т. II
«Как трудно мысль одеть словами…»[36]
Мысль изреченная есть ложь.
Ф. Тютчев.
Как трудно мысль одеть словами,
Ей галстук повязать, побрить,
Всеобжигающее пламя
И приукрасить, и смирить,
И чтоб с улыбкою пристойной
В беседе с разными людьми
Она приветила б спокойно
Наш злой и лицемерный мир.
О, если бы, презрев обычай,
Не прикрываясь мишурой,
Она, наперекор приличью,
Нас поразила б наготой,
Той наготой — до воплощенья —
Еще не звук, еще не крик,
Которую в одно мгновенье
Оденет ложью наш язык.
Стрела («Когда в неясном зеркале столетий…»)[37]
Когда в неясном зеркале столетий
В грядущем отразится наша жизнь
И в дымном, странном, в звездном полусвете
Соединятся вдруг и даль и близь, —
Тогда прозревшим станет очевидно,
Что мы по краю пропасти идем,
По краю честности и что постыдно,
Закрыв глаза, в полсовести живем,
В полжизни, данной для любви, в полдара,
Не холодны, не горячи — теплы,
В конце, в излете, не страшась удара
Уже почти не жалящей стрелы.
«Обленившийся парус напрягся, как мускул…»[38]
С. Дубновой
Обленившийся парус напрягся, как мускул,
Волнорез покачнулся и вдаль отошел.
Океан перед лодкой летящей был устлан
Беляками крутых, набегающих волн…
Как нам жить без романтики дымной простора,
Вдали осиротевших без нас берегов,
Если в мире реальна одна лишь опора
— Это ветер, соленая влага и горечь стихов.
О, как редко, о, в кои-то веки, случайно,
Из-за облака вдруг, и хрупка и легка,
Точно ключ, открывающий старую тайну,
Точно луч, — золотая слетает строка!
«Нет, я не мыслящий тростник…»
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник.
Ф. Тютчев
Нет, я не мыслящий тростник:
С тех пор, как вырван мой, меня питавший, корень,
Я мусикийскому дыханью не покорен
И беден мой земной язык.
Некрепкий голос еле слышен,
Скудеет сок и хрупок посеревший лист,
И тонкий ствол уже не ловит ветра свист,
И в полдыханья сердце дышит.
Лишь иногда скупая память
Подскажет мне, о чем поет живой тростник,
Что мир из мне не слышной музыки возник,
И что бессмертен мудрый камень.
«Мы взяли не все от бессмертной земли…»[39]
Мы взяли не все от бессмертной земли,
Пустые страницы регистра еще не заполнила память:
Отходят без нас поезда, и отчаливают корабли
Без нас, — нагруженные нашей тревогой и теми мечтами,
Которые мы до сих пор воплотить не смогли.
Их много еще, ненаписанных строк,
И что ж из того, что с годами нечетким становится почерк,
Что в рюмках часов золотистый поспешно струится песок,
Шурша беспокойною змейкой еще не проверенных строчек, —
Ведь время на миг прикрывает свой черный зрачок…
Но мы, отвернувшись, не смотрим туда,
В грядущее, в мир, где ни тела, ни памяти больше не будет,
Туда, где, томясь одиночеством, к нашей планете звезда,
Покинув орбиту, приблизится и, ослепительной грудью
Коснувшись, сожжет, не оставив от нас ни следа.
«На гребне горы, на неровных зубцах темно-синего кряжа…»[40]
На гребне горы, на неровных зубцах темно-синего кряжа,
Как трубы органа, одетые снегом и льдом,
Высокие ели стоят, а другие детали пейзажа
Незримы — как будто они заштрихованы сном.
Мой слух насторожен, но в мире вечернем ни звука.
И мир, он не мой: незнакомый и странный, — ничей.
И вдруг над горой, вдалеке, поднялись черно-белые руки,
И пальцы простерли — двойную корону лучей.
Ушедшее за гору солнце на острой вершине смешало
От света летящую тень и пронзающий свет,
И дрогнул орган, тишина напряглась и, шагнув, зазвучала,
От звуков в снегу оставляя отчетливый след.
«Воздух сегодня и звонок, и хрупок…»[41]
Воздух сегодня и звонок, и хрупок.
С дерева к дереву струны мороз протянул,
И дирижером на горном уступе,
Солнцем и снегом одев, он поставил сосну.
Лес в неподвижном застыл ожиданье,
Ветви взметнулись — одетые снегом смычки, —
Вспыхнет-не вспыхнет мгновенным сияньем
Луч или звук от движенья незримой руки?
О, как прекрасны земные дороги,
Суетны мысли, дела и желанья людей:
Видишь, с какою блаженной тревогой
Кустик застыл над невидимой скрипкой своей.
Молния («Сверкнула молния — и необычным…»)
Сверкнула молния — и необычным
Возникший мир увидели глаза:
Как будто из материи первичной
На миг пейзаж построила гроза.
Прозрачным сделалось природы тело,
И сквозь него просвечивал костяк.
Здесь, точно на рентгене черно-белом,
Ложилась тень от каждого куста,
Гряда камней, как позвонки скелета,
Ползла еще не созданной змеей,
И в том, что было мраком или светом,
Я видел отраженным облик свой,
Не тот, что в зеркале, — земной, привычный,
А тот, который скрытым я храню,
Как будто эта молния с поличным
Поймала совесть непрозрачную — мою.
Ушедшим друзьям («Обмят сугроб окрепшими лучами…»)[42]
Обмят сугроб окрепшими лучами.
Прорезался капели острый клык.
День ото дня подснежными ручьями
Весна обогащает свой язык.
Вдали, на чуть приметном косогоре,
Синеет след от выпуклой лыжни.
Должно быть, все лучи отныне в сборе —
Сошлись — и в луже мечутся огни.
О, молодость, о, щедрый праздник звуков,
Просторных мыслей и высоких слов,
Тех легких дней, когда к любой разлуке —
Безумец! — легкомысленно готов…
И вот теперь — не перекинуть слова,
Мои друзья, — о, сколько ни зови,
Туда, в тот мир, и нам не вспомнить снова
О Шиллере, о славе, о любви!..
ИЗ СТИХОВ 1930-1970-Х ГГ
«Мне снился дождь. Встревоженных ветвей…»
Мне снился дождь. Встревоженных ветвей
Я слышал влажный шум и разговоры
О том, что там, над головой моей,
Летят лиловые, разгневанные горы.
Я проникался запахом грозы,
Неизъяснимым запахом цветенья,
Я видел рост проснувшейся лозы,
Я чувствовал земли сердцебиенье.
В моей руке лежал прозрачный плод,
Прикрытый шелковыми лепестками,
Я слышал, как ладонь его дыханье пьет
Незримыми и нежными устами.
И медленно кружился мир во сне,
И наливался счастьем темный колос,
И белой бабочкой казался мне
Твой улетающий, твой легкий голос.
«Я все отдам — и жизнь, и Бога…»
Я все отдам — и жизнь, и Бога,
И то, чего не знаешь ты,
Все, все, — о за совсем немного,
За каплю нежной пустоты.
Пусть в суете и в суесловьи
Горит земное торжество,
Приляг ко мне на изголовье,
Мое родное «ничего».
«Сияет отчетливо, ясно и зло…»