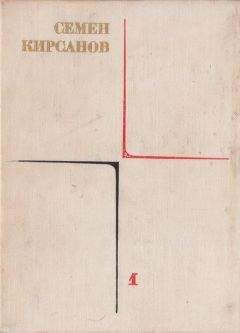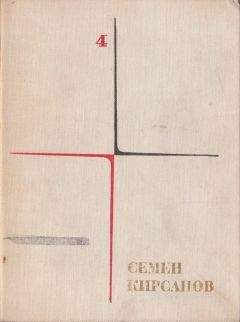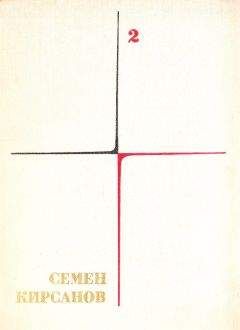Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 1. Лирические произведения
Перемена
Переходя на белый цвет
волос, когда-то черных,
я избавляю белый свет
от детскостей повторных,
от всех причуд, что по плечу
лишь молодым атлетам.
Я с ними больше не хочу
соревноваться цветом.
Пусть зеркала смеются: стар
Нет, вы меня не старьте.
Я серебристо-белым стал,
но как и встарь — на старте!
Тревога
Я этой ночью был встревожен:
мне показалось, что створожен
мой мозг, способный мерой мысли
всю ширь Галактики исчислить,
что он распался на частицы,
что ничего ему не снится.
Как? Разве оптика глазная
была неточной и неверной,
туманно зренью объясняя
наш ясный мир четырехмерный?
А слух, что дрожью на мембране
жил в лабиринте, — разве плохо
умел творить из колебаний
слова, мелодии и грохот?
Ведь миру мысль была экраном!
Зачем же убивать так рано
такие дорогие вещи
в угоду химии зловещей?
Ведь, Человечество, ты тоже
смотрело этими глазами,
ты осязало этой кожей,
рыдало этими слезами,
и этим мозгом человека
со всем двухмиллиардным валом
ты, Человечество, полвека
себя живущим сознавало,
мое ты чувствовало счастье,
и смерть моя — твоя отчасти.
Так дорожи малейшей жизнью
всех нас — единственных и многих.
И не дави, как давят слизней
на вечереющей дороге
людей безжалостные ноги.
Черновик
Это было написано начерно,
а потом уже переиначено
(пере-и, пере-на, пере-че, пере-но…) —
перечеркнуто и, как пятно, сведено;
это было — как мучаться начато,
за мгновенье — как судорогой сведено,
а потом
переписано заново, начисто
и к чему-то неглавному сведено.
Это было написано начерно,
где все больше, чем начисто, значило.
Черновик — это словно знакомство случайное,
неоткрытое слово на «нео»,
когда вдруг начинается необычайное:
нео-день, нео-жизнь, нео-мир, нео-мы,
неожиданность встречи перед дверьми
незнакомых — Джульетты с Ромео.
Вдруг —
кончается будничность!
Начинается будущность
новых глаз, новых губ, новых рук, новых встреч,
вдруг губам возвращается нежность и речь,
сердцу — биться способность,
как новая область
вдруг открывшейся жизни самой,
вдруг не нужно по делу, не нужно домой,
вдруг конец отмиранию и остыванию,
нужно только, любви покоряясь самой,
удивляться всеобщему существованию
и держать
и сжимать эту встречу в руках,
все дела посторонние выронив…
Это было написано все на листках,
рваных, разных размеров, откуда-то вырванных.
Отчего же так гладко в чистовике,
так подогнано все и подобрано,
так уложено ровно в остывшей строке,
после правки и чтенья подробного?
И когда я заканчивал буквы стирать
для полнейшего правдоподобия —
начинал, начинал, начинал он терять
все свое, все мое, все особое,
умирала моя черновая тетрадь,
умирала небрежная правда помарок,
мир, который был так неожидан и ярок
и который увидеть сумели бы вы,
в этом сам я повинен, в словах не пришедших,
это было как встреча
двух — мимо прошедших,
как любовь, отвернувшаяся от любви.
Роман
Сначала мы письма писали
и через перила свисали,
потом мы с тобой пересели
на детских коней карусели,
как дети, прощенья просили,
друг другу цветы приносили,
и вдруг на столе антресолей
рассыпали горсточку соли,
и — всё: отвернулись, остыли,
малейших обид не простили,
и даже «пока» не сказали,
как делают — на вокзале.
«Освободи меня от мысли…»
Освободи меня от мысли:
со мной ли ты или с другим.
Освободи меня от мысли:
любим я или не любим.
Освободи меня от жизни
с тревогой, ревностью, тоской,
и все, что с нами было, —
изничтожай безжалостной рукой.
Ни мнимой жалостью не трогай,
ни видимостью теплоты, —
открыто стань такой жестокой,
какой бываешь втайне ты.
Кольцо
Браслеты — остатки цепей.
И в этом же роде, конечно,
на ручке покорной твоей
блестит золотое колечко.
О, бедная! Грустно до слез.
Ты губишь себя, ты не любишь.
Кольцо уже с пальцем срослось,
а как свою руку отрубишь?
Ревность
О, чувство «ревность» —
какая древность!
В нем жив доныне
кнут над рабыней.
Оно — как скряга,
дрожит от страха,
дукаты прячет,
рычит и плачет.
В нем болью ноет
кольцо ножное.
Оно — как выкрик
в пещере диких.
«Мое! Не трогай!» —
рев над берлогой.
Я не позволю
ему проснуться
и болью злою
меня коснуться!
Просто
Нет проще рева львов
и шелеста песка.
Ты просто та любовь,
которую искал.
Ты — просто та,
которую искал,
святая простота
прибоя волн у скал.
Ты просто так
пришла и подошла,
сама — как простота
земли, воды, тепла.
Пришла и подошла,
и на песке — следы
горячих львиных лап
с вкрапленьями слюды.
Нет проще рева львов
и тишины у скал.
Ты просто та любовь,
которую искал.
К вечеру
Вторая половина жизни.
Мазнуло по вискам меня
миганием зеркальной призмы
идущего к закату дня.
А листья все красней, осенней
и станут зеленеть едва ль,
и встали на ходули тени,
все дальше удлиняясь, вдаль.
Вторая половина жизни,
как короток твой к ночи путь, —
вот скоро и звезда повиснет,
чтоб перед темнотой блеснуть.
И гаснут в глубине пожара,
как толпы моих дней, тесны,
любимого Земного шара
дороги, облака и сны.
Ушедшее
Вот Новодевичье кладбище,
прохлада сырой травы.
Не видно ни девочки плачущей,
ни траурной вдовы.
Опавшее золото луковиц,
венчающих мир мирской.
Твоей поэмы рукопись —
за мраморной доской.
Урны кое-как слеплены,
и много цветов сухих.
Тут прошлое наше пепельное,
ушедшее в стихи.
Ушедшее, чтоб нигде уже
не стать никогда, никак
смеющейся жизнью девушки
с охапкой цветов в руках.
«Я пил парное далеко…»
Я пил парное далеко
тумана с белым небом,
как пьют парное молоко
в стакане с белым хлебом.
И я опять себе простил
желание простора,
как многим людям непростым
желание простого.
Так пусть святая простота
вас радует при встрече,
как сказанное просто так
простое: «Добрый вечер».
СТИХИ О ЗАГРАНИЦЕ (1956–1957)
В путь
Семафор перстом указательным
показал на вокзал у Казатина.
И по шпалам пошла, и по шпалам пошла
в путь — до Чопа, до Чопа — до Чопа —
вся команда колес без конца и числа,
невпопад и не в ногу затопав…
И покрылось опять небо пятнами
перед далями необъятными.
И раскрыто сердце заранее —
удивлению, узнаванию.
Приезд