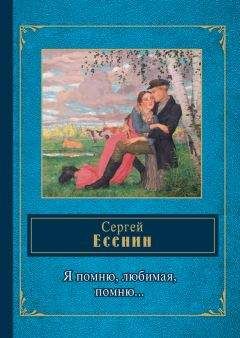Дмитрий Сухарев (Сахаров) - При вечернем и утреннем свете
Вариант Левитанского
В своей книге пародий «Сюжет с вариантами» Юрий Левитанский блистательно разработал известный с детства мотив: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». К несчастью, осталось неизвестным, как написал бы историю про зайчика не пародист, а поэт Юрий Левитанский. Сознавая, сколь рискованно мое предприятие, я попытался восполнить этот пробел.
Итак…
Место действия — двор. Но сегодня он Лобное место,
Ибо место на лбу для прицела удобное место.
Это кто ж это ходит? Кто, скажите, по дворику
ходит?
Кто на дворик выходит? Утешение в этом находит?
Это ус, это два, это три, это пять с половиной.
Это — цель, но со средствами связана цель
пуповиной.
Это — Зайчик, он бедный поэт, он объект покушенья.
Это будет потом. А пока он само утешенье.
А пока (даже лучше: но вдруг) выбегает Охотник,
Он до зайцев охотник, до зайчатины страшный
охотник,
И свой Фаустпатрон он на Зайчика страшно наводит,
И задумчиво водит пером, и усами поводит.
Этот крив, но неправ. Этот прав, но некрив.
Это вечная тема.
Это миф из шестнадцати глав. Это пиф, это паф.
Это мертвое тело.
И кривой, совершив свое мокрое дело, поводит усами,
А косой, чуть прикрыв свое тело трусами, поводит ушами.
Он живой оказался. Оказалось, что он застрахован.
Он капусту жует, а Охотник опять оштрафован.
Это так нелогично. Это в сущности антилогично.
Но войдет в антологию, ибо в сущности антологично.
Коля
В простодушном царстве
Коли Старшинова
Проживают цапля,
Щука и корова.
За боркун, что Коля
Подарил под пасху,
Нацеди, буренка,
Молочка подпаску!
Колю звать к обеду,
Цапля, носом стукай!
А вести беседу
Станет он со щукой.
Щука все-то знает,
Там и сям служила,
У нее на зависть
Становая жила.
И у Коли тоже
Ни усов, ни жира,
Потроха, да кожа,
Да струною — жила.
Не ему ли гости
К совершеннолетью
Перебили кости
Пулеметной плетью?
Не его ли, Колю,
Все равно что плетью
Садануло болью
К тридцатитрехлетью?
Он живет неслабо,
Завязал до смерти,
Не страшны ни баба,
Ни враги, ни черти.
Над рекой избенка —
Деревца живые.
На дворе буренка —
Боркунок на вые.
Во саду ли щука
Надрывает глотку.
На ходулях цапля
Лихо бьет чечетку —
Под щукины частушки пляшет.
Когда его бранят
Когда его бранят (а все кому не лень
Его бранят), когда его бранят,
Я надеваю на уши броню —
Не слушаю.
И не браню.
А тем, которые брюзжат или бранят
И брызжутся слюной у пьедестала,
Я говорю: — Коллеги, сплюньте яд!
Или сглотните —
Ничего с вами дурного не будет.
А брызгаться вам вовсе не пристало.
Да, чувством меры он не наделен;
Да, хвастуном зовется поделом;
Да, он стихи читает, будто чтец,
А это глупо; да, он раб приема.
Но ведь не раб приемных, не подлец,
Не льстец! Он был плечом подъема
Поэзии, он был подъемный кран
Поэзии — и был повернут к нам.
И мы учились —
рабски! —
у него,
Мы все на нем вскормились, лицемеры!
Беспамятство страшней, чем хвастовство.
А чувство меры…
Ах, было бы просто чувство,
Но с ним-то у нас негусто,
И слюна это просто месть
Тому,
У кого оно просто есть.
Когда его бранят (а все кому не лень
Его бранят), когда его бранят,
Я вспоминаю давние слова
О просто чувстве. И квартиру два.
Люблю его и тридцать лет спустя,
Люблю его — без всяческих «хотя»
И давних адресов не забывая.
Он — век мой, постаревшее дитя,
Дом семь, квартира два,
Душа живая.
Где оне?
Та литфондовская дама,
Что в пустой библиотеке
Попросила Мандельштама
И, смежив печально веки,
На ходу шепнула мне:
«Боже, боже, где оне —
Дни поэзии российской?» —
И тропинкою раскисшей
Побрела, прижав тома,
В корпус «А»,—
сошла б с ума,
Кабы я бы в тот же миг
Ей ответил напрямик.
Я ж повел себя гуманно
И в ответ вздохнул туманно.
Что поделать, я не той
Жив страницей, а вот этой,
Не успевшей стать воспетой
И для вас — незолотой.
Младший сверстник мне учитель,
Старший — ран моих лечитель,
Пушкин — бог, а божий вестник —
Мой ровесник, мой ровесник.
И над горечью страницы
Я включу свою свечу
И одной отроковицы
Откровенья пошепчу.
Ах, где же вы были раньше?
Мне молвит юная мадам,
Почти мадмуазель:
«Хочу отдаться вам,
Почтите же меня».
Мне пишет старая лиса,
Имеющая вес:
«Хочу печатать вас,
Пришлите же стихи».
Я той и той желаю благ,
Я в них души не чаю.
Я той и той примерно так
Прилежно отвечаю:
Извините —
У меня затянувшийся творческий кризис.
Но звоните,
Может быть, я поправлю свои дела.
Проклинание Кушнера
Догоняет меня Кушнер,
Хоть и доктор я наук[10],
Доконает меня Кушнер,
Никакой он мне не друг.
Чуть найду какой феномен,
Чтоб потешить знатоков,
Тут же Кушнер, мил и скромен,
Хвать феномен и таков.
Перед тайной полушарий
Я тридцатый год стою[11],
Я решить ее решаю,
Электрод в нее сую.
Наконец в асимметрию
Пролезаю на вершок,
Глядь, а Кушнер мне, Дмитрию,
Про нее сует стишок{1}.
Я, наукою влеком,
Темной ночью и тайком
За ланцетником собрался —
Низшим хордовым зверьком{2}.
Я в песок лопату пнул,
Я совком песок копнул,
Глядь, а там обратно Кушнер
Все, что было, почерпнул{3}.
Я ищу у амфиокса[12]
Мозга клеточный исток,
Я проникся, я увлекся —
Вот он, свернутый листок!
Кушнер рядышком шныряет,
Миг — и тянется к листку,
И куда ж его швыряет? —
В набежавшую строку{4}.
Уж на что уж сам я ушлый,
Кушнер в сорок раз ушлей.
Доконает меня Кушнер,
Тут попробуй уцелей.
Как случилось, кто виновен,
Что всегда без перемен:
Чуть найду какой фено́мен,
Тут же Кушнер феноме́н.
А и Б
А.
Поэзия есть обнажение смысла
посредством движения звука.
Напротив, бессмыслицей ведают числа,
и это зовется наука.
Наука — мышиная, в общем, работа,
подобье машинного счета.
Но можно расправить и крылья и плечи
простейшими средствами речи.
Б.
Ах, всё наизнанку! Поэзия — это
пустая истома поэта,
Потуга извлечь из мышиного бреда
свое петушиное кредо.
А корень извлечь — это вправду работа, подобье
машинного счета.
А крылья расправим и смыслы расчистим
простым сопряжением истин.
Диалог о рифме, или экспериментум круцис
I
«Но, мой Паскаль,— он говорил Паскалю,—
Допустим, я для рифмы пасть оскалю,
И — что? Какая общая черта
Сроднит тебя, Паскаль, с оскалом рта?
С пасхальным звоном? Пасквилем? Паскудством?
Такой подход граничит с безрассудством.
Не вижу в этом смысла ни черта!»
«А ты увидь! — Паскаль ему на это.—
Ведь ты же сам, Декарт, чутьем поэта
Назвал Монблан, а не Па-де-Кале.
Монблан — скала. От звука шаг до сути.
Ты подсказал, как сдвинуть столбик ртути,
И я, Па-скаааль, полезу пааа скаа-ле!»{5}
Сей диалог имел происходить
В подпитии хвастливом и хвалебном,
Когда Декарт придумал восходить
С запаянною трубкой и молебном
(Экспериментум круцис!) на Монблан.
Молебен — вздор? Так с этим нету спору:
На языке вертелся мооо-нооо-план,
Да монопланов не было в ту пору.
II
«Но ртуть-то будет пааа-дать по шкааа-ле! —
Вскричал Декарт.— Тогда, согласно вздору,
Что ты несешь, не лезть бы надо в гору,
А опрометью мчать к Пааа-де-Каааале!»
Паскаль зевнул: «Так с этим нету спору…
Седлаю?»
Оппонент хлебнул из кружки:
«Ну нет, пешком. Пешком, но как из пушки»{6}
III
Здесь к Пушкину приходит наш рассказ.
Давно пора! Сам спор — не о ключе ли
К его стихам? Не зря же битый час
Мы проторчали с трубкой Торричелли.
Зато и слово выплыло как раз.
Итак: межполушарные качели!
Валяй, качайся — славная игра:
Одним поём, в другом ума палата.
О ртуть, она прозреньями чревата!
Так вот куда вела Монблан-гора!
IV
Там Анна пела с самого утра.
V
Поэзия должна быть глуповата.
И темный кипарис