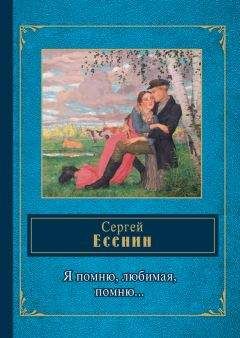Дмитрий Сухарев (Сахаров) - При вечернем и утреннем свете

Обзор книги Дмитрий Сухарев (Сахаров) - При вечернем и утреннем свете
1. Первые уроки
Путинки
Помню Страстной монастырь,
Кинотеатр «Палас»,
Пушкин в ту пору стоял
Вовсе не там, где сейчас.
Помню, стоит неживой
И не поднимет руки,
Глядя поверх мостовой
На Путинки, Путинки.
На Путинках, Путинках
В мареве утренних лет,
Как на лепных потолках,
Тени струились и свет.
Помню огромность окна,
Света и теней струю.
Восемь семей, как одна,
В том коммунальном раю.
Помню ту кухню в чаду,
Тех керосинок слюду,
Много в квартире жильцов,
Восемь одних лишь отцов,
Мало в квартире добра,
А на асфальте двора —
Мы, коммунальный приплод,
Родины нашей оплот.
В кинотеатр «Палас»,
Помню, водили и нас,
Помню, ходили с отцом,
Пушкин был темен лицом.
Будто сто лет — не сто лет,
Поднял Дантес пистолет,
И усмехнулись усы,
И пошатнулись отцы.
Все, что творилось во тьме,
Знали наутро дворы,
И оседали в уме
Правила взрослой игры.
Правила те — пустяки!
Вот и возникли стихи
Правилам тем вопреки
Про Путинки, Путинки…
Двор
А ташкентский перрон принимал, принимал, принимал
эшелоны,
Погорельцы и беженцы падали в пыль от жары,
Растекались по улицам жалкие эти колонны,
Горемычная тьма набивалась в дома, наводняла дворы.
И на нашем дворе получился старушек излишек,
Получился избыток старух, избежавших огня,
И старухи старались укрыться под крыши домишек,
Ибо знали такое, что вряд ли дошло б до меня.
А середкой двора овладели, как водится, дети,
Заведя, как положено, тесный и замкнутый круг.
При стечении лиц, при вечернем и утреннем свете
Мы, мальчишки, глядели на новых печальных подруг.
И фактически, и фонетически, и хромосомно
Были разными мы. Но вращательный некий момент
Формовал нас, как глину, и ангелы нашего сонма,
Просыхая под солнцем, все больше являли цемент.
Я умел по-узбекски. Я купался в украинской мове.
И на идиш куплетик застрял, как осколок, во мне,
Пантюркизмы, и панславянизмы, и все горлопанства,
панове,
Не для нас, затвердевших до срока на дворе,
на великой войне.
Застарелую честь да хранит круговая порука!
Не тяните меня, доброхоты мои, алкаши,—
Я по-прежнему там, где, кружась и держась друг
за друга,
Люди нашего круга тихонько поют от души.
Менуэт
Ах, менуэт,
менуэт,
менуэт,
К небу взлетающий, будто качели!
Ах, эта партия виолончели!
Годы минуют, а музыка — нет.
Мамка доходит в тифозном бреду,
Папка в болоте сидит с минометом,
Я, менуэт раздраконив по нотам,
С виолончелью из школы иду.
Гордо гремят со столба имена,
Золотом полнится ратная чаша,
Встану как вкопанный:
бабушка наша!
Бабушка наша — при чем тут она?
Чем же ты, бабушка, как Ферапонт,
Обогатила наш Фонд обороны?
Что за червонцы, дублоны и кроны
Ты отдала, чтобы выстоял фронт?
Бабушка скалкою давит шалу,
Дует в шалу,
шелуху выдувая,
Тут ее линия передовая —
Внуков кормить в горемычном тылу.
Бабушка, пальцы в шале не таи,
Имя твое прогремело по свету!
Нет перстенька обручального, нету,—
Знаю я, бабушка, тайны твои!..
…Что за война с тыловой стороны,
С той стороны,
где не рыщет каратель?
Все же — скажу про народный характер
И про народный характер войны.
В том и характер,
что дули в шалу
Или под пулями падали в поле,
Только бы в школе порхали триоли,
Как на беспечном придворном балу!
Ах, этот бал,
эта быль,
эта боль,
Эти занятья по классу оркестра,
Нежные скрипки, прозрачный маэстро,
Музыка цепкая, как канифоль.
Ах, этот Моцарт,
летящий вдали,
Эта тоска по его менуэту!
Бабушки нету, и золота нету,
Нового золота не завели.
Театр
Теперь уж поздно влюбляться заново
В нелепость жеста и пыль кулис.
Моей Актрисой была Бабанова —
Теперь уж поздно менять актрис.
Влюбленный отрок, в года невинности
Я рос за сценой. Теперь я стар.
Теперь я знаю, что значит вынести
Свой крест, и возраст, и долг, и дар.
Я видел львицу, металл кусавшую,
Ей править миром хватало сил!
Она царила! — и часто с Сашею[1]
Была свирепа; он все сносил.
Как прост и важен был жест Лукьянова!
Когда Ромео спускался в склеп,
Его котурны бесили Главного,—
А я не видел, что он нелеп.
Люблю котурны! Хитон обтреплется,
А мы котурны возьмем в слова.
Театр — нелепость. И стих — нелепица.
И жизнь нелепа! И тем — права.
Тиф
Как в тылу глубоком, в тыловой глуши,
У пустынь под боком, в городе Карши
Умирала мама от тифозной вши.
Бредила-горела, и в бреду таком
Распевала-пела тонким голоском,
Истлевала-тлела, плакала тайком.
А в тылу глубоком, а в тылу
В сыпняке лежали на полу,
А в тылу в ту пору голодали.
Ни родных, ни близких — ни души,
Но в Каршах, но в городе Карши
Моей маме умереть не дали.
Кто они, и где теперь они,
Люди, обеспечившие тихо,
Что живет положенные дни
Мама, умиравшая от тифа?
Железнодорожные огни,
Железнодорожная больница…
Надо бы хоть нынче поклониться.
Как ушли ступени из-под ватных ног,
Заплясали тени, зазвенел звонок,
Голова обрита: — Это я, сынок…
«За отвагу»
Почернела отцова медаль,
Превратившись в предмет старины,
С той поры, как навек отрыдал
Дикий ветер великой войны.
Оттого, что не дышит ребро
Возле тыльной его стороны,
Почернело навек серебро,
Превратилось в предмет старины.
Нынче некому бляху носить,
В коробчонке чернеет она.
Нынче некого даже спросить:
За какую отвагу дана?
У какого такого села,
Положившись на память мою,
Полегла, полегла, полегла
Минометная рота в бою?
Погубил! Про запас не спросил —
Молодая была голова.
Никаким напряжением сил
Не воротишь отцовы слова.
Почернел героический миф,
Погрузился в последнюю тьму,
Где, последний окоп раздавив,
Черный танк растворился в дыму.
Сказка
Уж как сладкое варенье
Старуха варила,
Того-этого кормила,
Любого кормила.
Тому кружку, тому плошку,
И вдвое, и втрое.
Комиссары и евреи,
Выходи из строя.
Тому кружку, тому плошку,
Тому поварешку.
Комиссары и евреи,
Скидай одежку.
А кого старуха любит,
Тому ложку пенки.
Комиссары и евреи,
Становись у стенки.
А в раю, раю небесном,
Где в птахах ветки,
У калитки ждут не предки,
Ждут малы детки.
Малы взлётки черным пеплом
Взлетели в трубы,
Малы детки белой пеной
Обмоют губы.
Уж как было угощенье
У лютой стряпухи,
Как слетались на варенье
Зеленые мухи.
На очах-то мухам сладко,
На сладком сытно.
Всё б сожрали без остатка
Конца не видно.
Первые уроки
Все васильки, васильки…