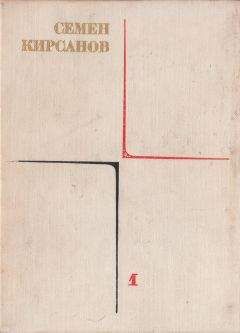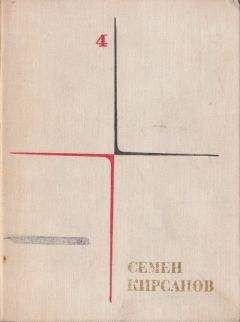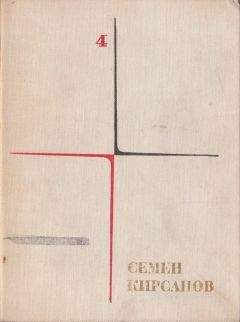Семен Кирсанов - Лирические произведения
ПОСЛЕДНЕЕ МАЯ
Поэма (1939)
Еще раноКоврик игрушек у белой стены,
деревянная лошадь
и сын,
где прозрачная память мерещит
стол
безнадежных стаканов и склянок.
А ему еще утро,
ему еще рано.
Раскладные деревни.
Составные зверьки.
Смотрит сын,
где туманная память ставит кровать
и из воздуха лепит
ее успокоенное лицо.
А ему еще рано,
ему еще не устроен
в комнате угол для горя.
Кустарную сказку про деда и бабу
слушает сын
в том углу, где, в марлевой маске, руками,
омытыми спиртом (маленького не заразить!),
волосики трогала, закрытая марлей до глаз.
А ему еще рано,
ему еще детство —
писать и читать.
Еще слишком хорошее рано —
перелистывает эту тетрадь.
У меня есть ты,
у тебя есть всё.
И руки, которыми я столько наобнят,
глаза, в которых
дважды я.
Боль в горле есть.
Есть русые смешным пучком.
Ну, в общем
всё…
Да, у тебя есть целый стол
лекарств.
Ты
есть
у комнаты.
Есть сын,
и есть у маленького
на постели мама.
Есть между нами разговор,
что в коммунизме
любимые болеть не будут.
Вот я и говорю:
— Лежи спокойно,
у тебя есть все, чтоб вылечиться
(все, кроме легких),
все!
Она смотрела
на карту Испании,
потом на меня,
потом на Испанию.
Там был черным и красным вычерчен
фронт
рваной дугой, с ужасною раной
университетского городка.
— Знаешь, — посмотрела она, —
это так похоже на мое горло.
(Измученный бомбежкой Мадрид,
где беженцы спят в сводчатой
глотке подвала.)
Вот уже четверо суток
ничего не глотает,
ее оцепили молодчики Тбц.
Четверо суток
она не смотрит
ни на карту,
ни на меня:
— Мне сегодня
очень плохо,
очень больно
(показывая на горло)
в Испании.
Уже температура
не в силах
подняться до нормы:
потянется лестничкой — упадет,
потянется —
упадет,
потянется…
А сердце
все еще трудится
сторожем забытого беженцами дома.
Окна разбиты,
нет никого!
А оно (сердце)
стучит по опустелому телу:
Тут пульс,
тут
виски,
тук,
тук, —
старается — служба.
А в доме нет никого.
Ее
дома нет.
Последние ночи
перед концом
она говорила:
— Пойди
пройдись, проветрись, пройдись.
Итожа жизнь,
я недосчитываюсь тех минут,
прикидываю в уме:
как много
минут, уйму минут
растратил я, плача по улицам.
Я уходил в свою комнату
что-то писать,
я смел спать, — а ты ожидала без сна,
с неузнанными мыслями,
с не сказанными
мне
словами!
Если подсчитать,
получится столько минут —
на целые сутки жизни с тобой!
Минуты! Минуты!
С ее покорным и нежным
лицом,
с неузнанными мыслями,
с глазами,
где тоже остались только минуты.
А в комнате рядом
ты
неузнанно думала:
«Он пошел, он пройдется,
на несколько пустяковых минут отдохнет,
по воздуху, бедный,
немного минуток походит,
пусть хотя бы
полночки поспит,
я еще за эти сутки не умру».
Я уношу из дому
то шкаф,
то платье,
то синие флаконы
твоих духов,
то голос: «Здравствуй, родненький!» —
все уношу из дому.
Приходит ночь, и память
все расставляет на прежние места.
Я уношу из памяти:
забыть!
Забыть глядящие в меня глаза,
гладящие меня ладони
и голос: «Здравствуй, родненький!»
Приходит ночь,
и сон
все расставляет на прежние места.
Я уношу себя из дому
на улицу,
но думаю:
«Ты там,
пришла
и удивилась:
Где шкаф?
Где платье?
Где синие флаконы
моих духов?
Где голос: „Здравствуй, родненький?“ —
и все расставляешь на прежние места».
Умерла бы ты
позже лет на сто,
я б знал кропотливые возможности науки.
Я б знал,
что будущего фантастический хирург
из первой желающей девушки
сделал бы вновь тебя.
По точным приборам
высчитав
кожу и голос —
из института похожих
вышла бы
абсолютная ты.
Сначала не совпадут воспоминания —
и это исправит
будущего фантастический хирург.
Детство умершей
ей внушено,
а в легких сделай для полного сходства
небольшой, безопасный
туберкулез.
Уверен,
при таком состоянии
желающая девушка бы нашлась,
вошла бы чужая,
а вышла бы абсолютно ты.
И, может быть, вправду
в фантастическом будущем
не за меня — за другого
выйдет
абсолютная ты.
Я не такой себялюбец —
лишь бы ты.
Медсестра говорит:
— Ваш сын похож
на вас,
вылитый вы.
Медсестра не знает,
что ею заколеблен мостик надежды
через десять лет
узнавать
в мальчишеских бровях, усмешке,
в чем-то еще — во всем! —
ее,
ее,
потерянную ее;
мостик надежды,
на котором готов простоять десять лет
вылитый я.
Папироса бяка,
не бери!
Спичка бяка, ножницы бяка,
это еще не очень страшные бяки,
но не бери.
Я еще живу
среди жадных и себялюбивых бяк.
Пока ты вырастешь,
самые страшные бяки вымрут
и, кроме папирос и спичек,
останется очень мало бяк.
Ты племянник всего.
Вчера я гордился,
что ты меня
назвал
«дядя».
Сегодня ты дядей назвал карандаш.
Сказал очкам
«дядя».
У тебя оказалось множество дядь:
дядя Лампа,
дядя Лошадь,
дядя Няня,
дядя Каша
и даже дядя Музыка Граммофона.
Ничего, ничего,
это неплохой мир,
где окружают тебя многочисленные
и разнообразные дяди.
Когда ребенок
умеет
сделать «ма»
и потом еще одно «ма» —
это не значит,
что он обращается к матери.
Просто так сложилось губам,
просто из внезапно открытых губ у детей
получается
«ма!»
И это не требование,
не вопрос,
не укор
мне,
не умеющему привести к нему «ма»
и второе «ма»,
обнимающее его,
как мама.
Но ведь та вода,
что она подымала в ладонях умыться, —
сейчас
или в круглом облако,
или в подпочвенных каплях,
или в травниках.
И ведь та земля,
где она ступала,
и любила
первомайскую площадь,
та земля
или сверкает в росе,
или подернута
смолистым гудроном,
или у тети Мани в цветочном окне,
где герань и алоэ.
Но ведь и воздух,
надышанный ею,
тоже где-нибудь служит
нуждающимся травинкам!
Я точно знаю —
ее
нет.
Но мир-то как-то ею затронут?
Я целую твой розовый пропуск
с гербом
на трибуну
нашего
1-го,
твоего последнего
Мая.
СОРОКОВЫЕ ГОДЫ (1940–1945)