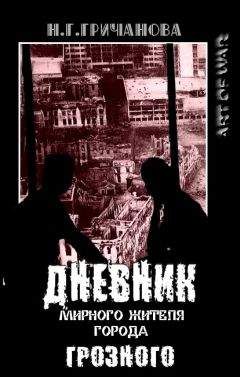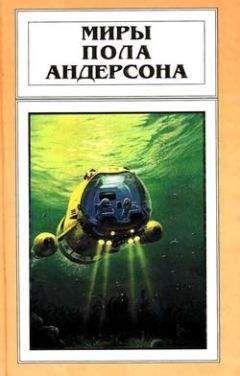Наталья Загвоздина - Дневник
К. Александровой
Переменчив Марли.
Веет Балтикой.
Севера свет.
То угрюм, то сварлив.
Эхо антики.
Поздний рассвет.
Балюстрада пуста.
Воздух полон.
Печалится друг.
Всё, чем можем устать,
в не «открыточном поле»
сотру.
В. Куллэ
Жизнь берёт за грудки —
то меняет мороз на тепло,
то бежит из-под ног…
Грустно, грусть, загрустить —
этак сколько уже натекло…
Подставляйте под дно!
Горстью высыпан к нам
новый снег —
что за старый приём!
Постоим у окна
и увидим совсем не во сне,
как торчит остриё…
2008
…Он вздыхал и жаловался на свою привычку к комфорту…
П. Муратов. Париж. 1927Кириллов – через жизнь! Сей час – через Европу,
её гулянья флёр (дух), сытости броню —
покоишься… Браню, стыжусь – не робким
в садовника саду сухие черешки
оплакивать, поить слезою, кровью, каплей
Отеческой воды – ждать жданием… И здесь,
в Кирилловой зиме, глядеть, как через кальку,
на выставленный след в непраздной борозде.
Вологодское сиротство не сродни иной кручине.
Над стеной летает ворон – не грачи, не
золотой надвратный ангел трубным гласом
душу нудит, а – с высока – ясным глазом.
Заведём с водой озёрной чай за полночь
позабыть житьё худое и запомнить,
как светло в ночи остывшей, в чёрной сини,
от лампады, что затеплил Старый Симон.
К братьям инокам сошлись те и эти
(и ловитва – посейчас – в те же сети),
чьё сиротство не в пример Отчей ласке.
В вологодские снега – на салазках,
на санях, пешком – по льдам и сугробам…
Напрямки – и в колыбель, и ко гробу.
М. Серебряковой
Тут бегает в снежке китайская дворняжка
и пахнет посильней заезжий мандарин,
тут император – чушь, и здешние дворяне
умеют без затей – что прятать, что дарить.
Сохранно и светло открыто миру в очи
(за три на десять дней и полутыщу лет),
чем тощая земля цветёт и мироточит,
питается вода и полно дышит лес.
Здесь жизнь сотворена рукою богомаза,
водимою другой, невидимой рукой,
и может быть – не нам, и может – не в укор,
меняющим лицо на лицевую маску.
В глубокой траве незабудки растут,
Упругий укропчик ромашки,
Лилового клевера шишечки тут
И бело-зелёные кашки…
…И прочие цветы покоятся под спудом,
безмолвствуют вовне и верность берегут.
За этим – никакой не позабыт, не спутан,
распахивая твердь на прежнем берегу.
В земле изгоя нет – кормилица и матерь.
Лишь мы – между землёй и небом – в перекат,
по ветру. На краях: Отеческий гиматий
и Девы омофор – «Иные берега».
Всё видится Пустынь и пустошь,
глазницы стены и глаза,
какие отныне не спутать
с глазами иными. Лоза
февральская сорская слёзно
склонилась вдоль тракта к ногам,
надсадно упорствует трактор
и воет на сон по ночам.
Всё вижу неровные лица
неровных фигур на плацу,
каким ни единой крупицей
за их караул не плачу…
Щедра Преподобных могила,
смиренна нетленная мощь.
Какие владыки могли бы
такое служение мочь?!
В своей нецелованной раке
не дремлет прославленный Нил,
и снежные россыпи Рая
раскрыты, как сени, над ним.
Двойного призрения дело
назначено скудной земле,
где в каждой безбрежной зиме
врачуют корявое тело
убогое, с криком из глаз…
Где всякий юрод под Покровом.
Где чает родной не по крови,
что Дух – нипочём – не изгнать.
Мы Ниловы дети, и нас
сбирает по миру ограда,
где Пастырь, родня и инак,
дарит неземною отрадой.
Обшарпан, заплёван, замшел
кривой монастырь при дороге…
Был изгнан оттуда взашей
я. Мне он – злачёных – дороже.
А в Горицах не знать, то ль горько, то ль гористо,
не ведать полосы меж сушей и водой,
ступать за горизонт, не поминая риска,
проваливаться вглубь, не думая о том.
Не думая, что там моря и пароходы…
Идти путём Шексны, невидимым глазам…
Смотреть и видеть то, что испокон – охота,
и слушать без помех и фальши голоса.
Здесь есть часовня, храм, калитка проще нету,
последние листы другого мира, тишь.
Мы обоюдны в том, вневременны и немы,
готовы замереть и жаждущи расти.
Я стареньким фото спешу забрать с собою
всё выросшее здесь под благовест и свист:
дешёвый рукомой, и половик с забором,
и ласточкин шалаш, что слеплен, а не свит.
А выше и светлей, над лестницей из леса
строительных лесов, студёным родником —
владычествует крест небесного замеса,
и птица наверху стенает ни о ком.
Но смирно на земле. Погост (сестры и жёны)
историей храним, историю храня.
Земля какая есть, чужим не обряжена,
живёт своим трудом, себя не уроня.
«А много ль вас, сестра?» – «Да пять и пять, знать, десять.
Печём исправно хлеб, на клиросе, в хлеву —
скотина. Ждём весны, большой воды… Не тесен
монашеский приют… Всё, видишь, во хвалу».
Во славу в феврале, такого-то такого,
я здесь одна как перст, без спутников и слов,
оглядываюсь вдаль на купол, не с тоскою,
ступая на дорог заснеженных излом.
Наверное, мальчик Шаламов
головку закидывал так.
Мелодии южных шалманов
ложились с зимою не в такт.
Но в Вологде, там, где София,
гряда колокольни в отлёт,
где вместо кремлёвских софитов
сияет нетронутый лёд, —
так надо вселенским соблазнам
расти навсегда вопреки…
…Внизу ненавязчиво ласков
изгиб поимённой реки
спустя сотню лет по рожденью
поповского, видно, сынка…
Должно быть, он здесь услыхал:
«Не знать наверху пораженья».
Е. Кумани
Мы выпили вино, нарезав сыр неровно,
молочный мрамор, сталь, неброское стекло,
рубин и кислотца… Забывшиеся роли
исполнив в унисон… И время истекло.
И жизнь течёт к концу.
Вселившись в центр столицы,
забравшись в эту ночь под ветра перепад,
я вглядываюсь в даль, воздавшую сторицей,
забыв вбежать в метро под поздний перепал…
Так много позабыть, но узнавать по мере —
что заячьих следов моих найдётся тут!
Минуты не искать, чтоб налегке поверить:
здесь воинство – моё и, значит, мой редут.
А ночь течёт к концу. Светают наши лица.
Блестящая фольга и тёмная бутыль.
Февральское само пересеченье линий
потворствует? Как знать? Но кажется —
не Ты ль?
Праведных же души в руце Божией…
Прем. 3, 11То же человеческие отношения.
Они – золотая рыбка на глубине.
Из письмаБотинок с холодным снежком
уже тяжелеет как в детстве…
В садке с несмышлёным снетком,
которому некуда деться,
живётся, покуда в реке
оставит рыбак до докуки…
Так биться не в Отчей руке
излюбленной рыбке – докуда?
Уже тяжелей, на исходе,
с заснеженных горок на лёд
слетать… Видно, истинно горек
царапины жёсткой налёт.
Не ходи за мною – в сон
не ступлю твой, дальним краем
не пройду по кромке дня,
не коснусь черты вечерней.
Я расту под небом – зонт
убери. В себя играя,
не прибавить, не отнять.
Божий свет не светит вчерне.
Мне дороже да и нет,
жизнь всерьёз, судьба навеки,
и дыхание – вдвойне
запечатавшее веки.
Ожерелье – дедово.
Непрощенье – отчее.
Что с такими делать-то,
коли делят отчерком
радости – от горюшка,
головы – от плечика
жизнь?
От ворот до горницы
поищи ответчика!
На цепи эмалево
поднебесье вкраплено.
Стерегися – мало ли! —
набрести на грабли-то…
Опояшусь чётками
исцеленья ради-то.
Непрощенье – чёрное.
Ожерелье – прадеда.
На цепи – не выдумка! —
завещанье горнее.
Ухватить обиду-ка
да и вынуть с корнем-то!
Отсекая сменное,
не прейдёт нетленное.
Погребальной лентою
искупленье смертное.
Непрощенье – тёмное,
ожерелье – в патине,
точно сажей тёртое.
Будто в сердце впаяно.
Сколько нас, обидчивых,
не рассталось с серебром?
День полёта птичьего
в полыханье Севера.
Где в земле, как водится,
мирно деды сложены
под крестами. Вольница —
жизнь, и жизнь – заложница.
А отец рассказывал
о сияньи северном:
полотне со стразами
на подносе серебра.
Так в груди, где холодно,
жжёт огнём и лавою,
обращая в золото
неразменной ласкою.
Золотым свечением
нимб Отцов впечатанный,
как восход – в вечернее,
в эту быль печальную.
Напрасен твой вопрос. Часов и географий
не ведает душа, сторонняя столбу
и привязи на нём, замку, запору – равно,
звучащая зане свободная. Ста букв
и нот поверх семи не ищущая всуе,
на солнце и на тьму смотрящая в упор,
и вовсе не за так замешенная в судьбы:
добавленная нить в слагаемый убор.
Но оторопь берёт от дерзости язычной
своей, когда межи не ведают уста.
Свободное дитя в коробочке яичной,
какое сбережёт Родительский устав,
спаси и сохрани! Времён и географий
хоть сколько, хоть ни-ни – душа жива не тем:
не долу, не в обход, в скрывающую темь
не смотрит на черте последней из окраин.
По марту побегу, снимая отрывные
листы календаря, – весенний листопад
идёт не за окном, скрываясь от ревнивой
метелицы с дождём, бегущим по стопам.
Мне совестно не дать тебе руки в ненастье,
но помнишь? – гиацинт и свеж, и разноцветн.
Под корень без поры его срезать не надо,
не надо и души неволить, раз ответ
не вырос напоказ, но копится и зреет,
и обратится в плод, коль обретёт вопрос.
Посеем и пожнём – порядок давний прост.
Садовник в верный час готовый стебель срежет.
Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи…
К тому – вся праотцева жизнь, отеческий погост.
Враги, и други, и родня, иной захожий гость.
Чертёж глаголицы, клочок бумажный, ход времён.
Тепло и правда, страх и дрожь, смертельное враньё.
Сложенье и разлука душ, сложенье букв и слов.
Святое бодрствованье, сон, невыразимость снов.
И грех, и плач, и верный стыд, и воли Божьей знак.
Любое вслушиванье, взгляд, сор, что ни взять, ни знать…
Плывут по вечности Творца и попадают в снасть.
Н. Афониной