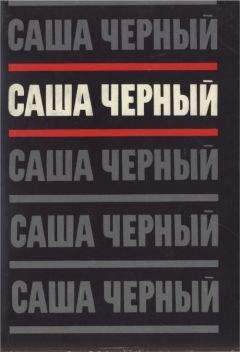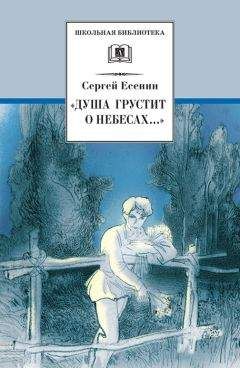Вадим Андреев - Стихотворения и поэмы в 2-х томах. Т. II
«Все то, что было доблестью и славой…»
Все то, что было доблестью и славой,
Что было солнцем средь суровой тьмы,
Что нам казалось ясностью кровавой,
Что мы жалели и любили мы, —
Теперь неправедно и лживо.
В часы моей бессонницы глухой
Воспоминанье тенью суетливой
Кривляется, как шут, передо мной,
И на стене, меж выцветших обоев,
Меж поцарапанных сухих цветов,
Сияет небо темно-голубое,
Всплывает очерк милых берегов,
И желтых дюн, лесов и гор Кавказа
Чуть зримая проходит череда.
Но я молчу, как воскрешенный Лазарь.
Ночь непрорубна. Жизнь, как ночь, тверда.
И чем протяжнее ночное бденье,
Чем одиночество ночное злей,
Тем для меня неумолимее виденье
Твоих обезображенных полей.
Что мне теперь моя родная нива
И маками заросшая межа?
Не верю я — все лживо, лживо, лживо,
И ты, отечество, — лишь прах и ржа.
Прости меня. Я знаю, ты — прекрасно.
Мне тяжело неверие мое.
Горит на знамени кроваво-красном
Нерукотворное лицо Твое.
Последний день в Батуме (15 марта 1921 г.)
Когда голодный и бесцельный день
— Еще один, — погаснув, распылится
И в тишине земная дребедень,
Дневная суета угомонится,
И, закрывая низкий небосвод,
Всплывет туман темно-лиловый,
И ночь ко мне вплотную подойдет
И руку мне пожмет рукой свинцовой, —
На миг один блеснет средь голых туч,
Как тень уже умершего заката,
Пронзительный, неуловимый луч,
Мелькнет и вновь исчезнет без возврата.
Я помню мглу и заснежённых гор
Застывшие, мучительные складки,
И моря Черного взволнованный простор,
И дымный жар кавказской лихорадки,
И бухты серую, холодную дугу,
Далекий шум прибоя, берег мелкий,
И там, на темном, смутном берегу
Упругий звук последней перестрелки.
И помню я, как между низких туч
— Иль, может быть, теперь мне это снится —
Мечом багровым просиявший луч
Мелькнул прощальной русскою зарницей.
Гибель Атлантиды («Крылатое море взлетало, крича…»)
Крылатое море взлетало, крича,
Воздушные рушились кариатиды,
И брызги, упав, как на луг саранча,
Съедали холмы и поля Атлантиды.
Лиловой воронкою водоворот
Затягивал низко нависшие тучи.
На самое дно оседал небосвод,
На спину тяжелые волны навьючив.
Огромные рыбы врывались в дома,
Влача за собою, как невод, молчанье.
Вздымалась и встала, качаясь, тюрьма,
Отрезав от мира звезду мирозданья.
Я знаю, здесь та же подводная мгла,
Здесь та же глухая струится стихия.
Не выживу я, если ты умерла,
Моя Атлантида — Россия.
«От волчьих берегов моей отчизны…»
От волчьих берегов моей отчизны,
От ледяных и огненных полей
Вздымается жестокий ветер жизни,
И жесткий вихрь час от часу сильней.
Но бедный слух — он жизни той не слышит,
Весь мир наполнен черной глухотой.
Ночь страшно глубока, и свет не дышит,
И сон и смерть — в сожительстве со мной.
ИЗ СБОРНИКА «НА РУБЕЖЕ» (1947)
«С утра стоял туман. Сквозь нежный полог…»
С утра стоял туман. Сквозь нежный полог,
Сквозь мглистый блеск струился мир земной,
И в небе солнца огненный осколок
Всплывал, как сновиденье, надо мной.
И только к вечеру, перед закатом,
Разорвалась оранжевая мгла,
И в небе, острым пламенем объятом,
Немая глубь, пылая, расцвела.
И стало все прозрачнее и чище,
Как будто в первый раз душа моя
Сквозь ярь и дым природы нищей
Родимые увидела края.
Да, так — я создал много мертвых песен,
Меня земные звали голоса,
И был туман печален и чудесен,
И сердцу непонятны небеса.
Теперь скупее речь моя глухая:
Я жду, вот-вот проглянет синева,
И в первый раз взлетят, не умирая,
Как птицы, — озаренные слова.
Учитель
Он говорил: «Учись бесстрастью,
И слух и зренье умертви,
Не доверяй земному счастью
И человеческой любви.
Добро и зло неотделимы
И неразлучны — ночь и день —
Ведь даже смерть — лишь призрак дыма,
Гонимая ветрами тень.
Свободы нет и нет смиренья, —
Чего бы ни коснулся ты,
От первого прикосновенья
Растают зыбкие черты».
Он говорил. Горела тускло
Суровых глаз голубизна, —
Так дремлет ночь в пространстве узком
Полуприкрытого окна.
И были точные движенья
Его пергаментной руки
Полны холодного томленья
И утомительной тоски.
Он говорил: «Земной природы
Я темные слова постиг,
Я вчитывался годы, годы
В страницы первобытных книг.
Весь мир лежит, как мертвый камень.
Он мохом и травой оброс.
Давно потух прекрасный пламень
Его невыплаканных слез.
На дне угрюмых океанов,
Меж стен зеленых ледников,
В тени гранитных великанов
И в завывании ветров
Я правды не нашел. Все ложно,
Во всем давно душа мертва,
Все беспощадно, все ничтожно,
И слова нет, а есть слова».
Он говорил. Не умолкая,
Текла мучительная речь.
Металась мошкара ночная
Вокруг огня усталых свеч.
Слепого ветра дуновенье
Покачивало огоньки,
И на стене, как привиденье,
Взлетала тень его руки.
Он говорил: «Высоким словом
Сердца людские не прожечь:
Для них понятнее оковы
И палача спокойный меч.
Для них свобода — преступленье,
Для них спасение — острог,
Их рабское воображенье
Для них спокойствия залог.
Покинул я земные веси
И торжища, и города,
Забыл я звуки бедных песен,
Детей упорного труда.
Вдали безрадостного шума
И торопливой суеты
Я обратил мой ум угрюмый
К сиянью Божьей высоты.
И, усмиряя дух железный,
Я в тайны грозные проник:
Не человеческий, а звездный
Во мгле я изучил язык.
Мне стали внятны звуки рая,
Огни ликующих светил,
Мой слух расширенный лаская,
Меня певучий луч пронзил.
Земная отошла тревога,
И в блеске огненных зарниц
Перед пустым престолом Бога
Душа моя простерлась ниц.
И с глаз упал туман желанный,
Во мгле растаяло тепло,
Как будто демон бездыханный
Раскрыл холодное крыло.
И понял я, что рок бесцелен,
Что смертен даже райский свет,
Что как бы ни был беспределен
Огромный мир, — в нем правды нет».
Он замолчал, и беспощадно,
Невыразимо жестока,
Легла, как тень, на мир громадный
Его холодная рука.
И вдруг мучительно и тонко,
Как сквозь тяжелый полог сна,
Раздался слабый плач ребенка,
И раскололась тишина.
И вновь из хаоса и праха
Возникла бедная юдоль.
Я понял — для любви не плаха,
А щит — мучительная боль.
Душа расплавлена страданьем,
И целый мир в слезе одной
Горит немеркнущим сияньем,
Божественною глубиной.
«…Снега, снега. С огромной далью…»
…Снега, снега. С огромной далью
Огромный слился небосвод.
Покрытые зеленой сталью,
Уснули струи мертвых вод.
Горбатые застыли льдины.
Уступы исполинских скал
Суровый ветер обыскал
И взгромоздил — вверху — лавины.
Один неосторожный звук,
Родившийся из ниоткуда —
И вот снегов тяжелых груда
Дрожит и рушится, и вдруг,
Подобно вихрю, возникает
Взметенный к небу белый прах,
И человека обнимает,
Как брата брат, — бессильный страх.
НА БЕРЕГУ МОРЯ (1–6)