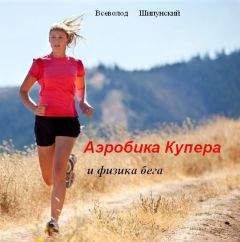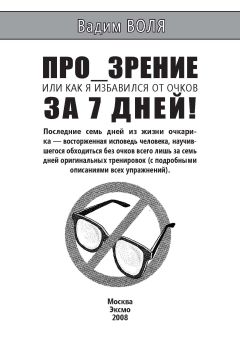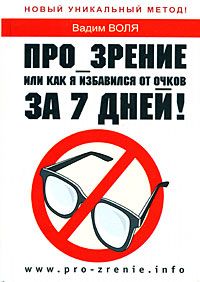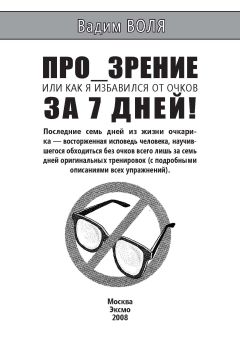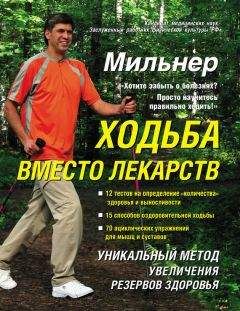Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Нет, дело в другом.
Из зарубежного похода Катенин вернулся, как и тысячи других офицеров, с настроем вольнодумным и остро-критическим. Государь вызывал у него чувства противоречивые, если не сказать хуже.
В том же 1816 году Катенин получает звание штабс-капитана и становится членом «Союза спасения» – первого тайного общества, предвестника будущих декабристов.
Во второй половине 1817-го, во время пребывания войск гвардии в Москве, Катенин возглавил одну из двух «управ», объединивших членов тайного общества, находящихся в походе.
Тогда – в Москве, в конце 1817-го – уже обсуждался проект цареубийства. Литературовед Вл. Орлов сопоставил два любопытных факта. Декабрист И.Д.Якушкин на встрече заговорщиков вызвался зарезать императора во время торжественного богослужения в Успенском соборе. Но в написанных примерно тогда же Катениным стихах «Рассказ Цинны» (весьма вольный перевод из Корнеля) речь идёт ровно о том же способе убийства тирана:
Искать ли случая? но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов,
И сам падёт, от нас на жертву принесенный
Пред Вечным Судией спасению вселенной…
Более того, говорит Орлов, строка «Сын кровью каплющий убитого отца…» в этом стихотворении является безусловным намёком на то, что Александр был замешан в убийстве своего отца, Павла I.
Судьба готовила храброго и заносчивого Катенина к тому, чтоб его убили на Сенатской, или отправили в Сибирь, или повесили.
В 1817 году Катенин напишет:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах! лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас…
Черновик, естественно, сжёг, но прочёл одному-другому это сочинение, и – ушло в люди.
Декабристы это пели хором. Он сам тоже некоторое время пел; а потом раздумал. Не разом, но постепенно.
После преобразования «Союза спасения» в «Союз благоденствия», уставом которого, к слову сказать, отвергалось насилие и цареубийство, Катенин из тайного общества вышел. Было даже предположение, что уход состоялся из-за несогласия с отказом казнить императора – а позже это предположение вдруг стали выдавать за факт.
Но никакого отношения к действительности эти догадки не имеют.
Тут, предположим мы в свою очередь, имело место что-то личное. Катенина, во-первых, литература привлекала куда больше: по письмам его видно, что театром и поэзией он увлечён маниакально и ни о чём больше говорить не желает, литературные ставки свои считая самыми высокими; а во-вторых, он был едок и временами спесив – ему могло любой раздражающей в декабристском сообществе мелочи хватить, чтоб разорвать с заговорщиками сношения.
С другой стороны, вольнодумные стихи Катенин писать не перестал и, по некоторым наблюдениям, до какой-то поры вёл в этом смысле негласное соревнование с Пушкиным.
Но возглавлять он предпочёл другие общества – словесные.
В том же 1817 году Катенин становится главой группы молодых литераторов, в которую входили его ближайший друг Грибоедов, критики Д.П.Зыков и Н.Н.Бахтин, позже к ним примкнул поэт Вильгельм Кюхельбекер.
Ксенофонт Полевой скажет об этой группе, что они хотели делать литературу «из родного мира, из уцелевших памятников русского духа, из стихий русского быта».
Катенин пишет совместную с Грибоедовым, с которым они уже два года как были знакомы, комедию «Студент» (1817) – действительно остроумную вещь, пародирующую в числе прочих Жуковского и Батюшкова.
Исследователи склоняются к тому, что сочинил её в основном Грибоедов. Строй речи комедии заставляет с этим, скорей, согласиться: слишком она стремительная и остроумная для тяжеловесного Катенина. (Спустя несколько лет он скажет про «Горе от ума»: «…Слог часто прелестный, но сочинитель слишком доволен своими вольностями: так писать легче, но лучше ли, чем хорошими александринскими стихами? вряд» – ну, вы поняли.)
Однако некоторые места в комедии явно если не его рукой писаны, то им проговорены Грибоедову: к примеру, пассажи о безграмотности современных словесников, не выучивших даже правописания (это был пунктик Катенина – ловить собратьев по ремеслу на речевых ошибках; черта, впрочем, свойственная чаще всего людям хоть и образованным, но литературно одарённым не в полной мере).
Согласно сюжету комедии, в Санкт-Петербург приезжает казанский студент Беневольский, напыщенный болван, обуреваемый многими планами, рассуждающий о том, как ему встретятся «стихотворцы, которые уже стяжали громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов; я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно!»
Мрачный катенинский скепсис тут очевиден: взаимное хвалебное опыление (особенно когда оно не касалось Катенина) он на дух не переносил.
И сколько здесь было жёсткой наблюдательности, а сколько – зависти, гадать не станем.
Лучше взять другой пример. В 1818 году Катенин сближается с молодым Пушкиным. Пушкин явился к нему на встречу с тростью и сказал, её подавая: «Я пришёл к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи».
Другой бы возгордился, сказал: ну что ж, сын, слушай (Катенин был старше его на семь лет, и на целую, в два года длиной, войну).
Казалось бы, что-то подобное от Катенина возможно было ожидать, но он лишь усмехнулся: «Учёного учить – портить». Дар девятнадцатилетнего Пушкина Катенину уже был очевиден.
Впрочем, «Руслана и Людмилу» Пушкин писал под воздействием Катенина. Карамзинисты в этой поэме мало поняли: насадил, мол, Сашка, свои русские лопухи тут. В кружке Катенина, напротив, именно народность и увидели, и оценили.
На какое-то время Пушкин в смысле творческом оказался к Катенину ближе, чем к своим ближайшим и старшим товарищам, от Жуковского до Вяземского. Предположим, что отмеченная ещё Тыняновым борьба «за русскую балладу», которую вёл Катенин «против баллады Жуковского с иностранным материалом», катенинская работа с метрикой, а также его интерес к русскому фольклору в какой-то момент показались Пушкину любопытны.
Тынянов убедительно доказывал, что Пушкин, в отличие от многих своих современников, разглядел в Катенине «преднекра-совское» (широкое использование народной, грубой, просторенной, «демократической» лексики) – то, чего тогда не было ни у кого.
…В 1818 году Катенин получает звание капитана. В середине года он возвращается в Петербург и занимается с тех пор в основном театром. Трагедии, комедии, переводы, Корнель, Лонжпьер, время от времени всякие революционные шпильки, но – никаких заговоров.
Важный момент: Вл. Орлов заметил, что в «Эсфири» Расин намекает на военные успехи Людовика XIV, а Катенин, в свою очередь, переводит Расина так, что речь уже идёт о победе над Наполеоном:
Хотя б столь мног был враг числом,
Сколь мног песок на дне морском,
Хотя б как звёзды искрометны,
Их были полчища несметны, —
Падут паденьем их толпы Тебе,
Царь славы, под стопы.
И в бегстве не найдут спасенья,
И мраз, и глад им путь препнет,
И ангел божий, ангел мщенья
Мечом бегущих поженет.
И преисполнятся кладбища,
И будет псам и птицам пища;
Теснились тьмой путей прийти
и не обрящут вспять пути…
Мощнейшие стихи: нарастают, как грохот камнепада.
В 1820 году в первом номере журнала «Сын отечества» публикуется большая историческая вещь Катенина «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке под предводительством князя галицкого Мстислава Мстиславовича Храброго» (неотступный Бестужев-Марлинский сострит, что, судя по названию, русский князь был предводителем татар).
В «Песни…» насчитывается целых тринадцать стихотворных размеров: до сих пор так никто в русской поэзии не делал. Ю.М.Аотман отмечал умение Катенина «идти вне проторенных литературных дорог».
Как ток реки,
Как хо́лмов цепь,
Врагов полки
Покрыли степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пра́щи – дождь,
Мечи – огонь.
Здесь – мёртвый вождь,
Тут – бранный конь,
Там – воев ряд,
А там – доспех:
Не может взгляд
Окинуть всех.
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встаёт с земли,
– да это просто Багрицкий какой-то, или Светлов; вся советская поэзия потом каталась на этой катенинской лихой ритмике.
Знаменательно и финальное двустишие:
Пали на́земь лицом, и в слезах благодарных молили
Бога и спаса Христа и пречистую деву Марию.
Неправильных, но остроумных рифм, подобных «молили – Марию», в русской литературе не будет ещё примерно сто лет. Мы не найдём ничего подобного ни у Лермонтова, ни у Вяземского, ни у Тютчева. Начнётся это, по большому счёту, с Маяковского.
Катенин, кажется, даже и не рифмовал эти строки (так, предыдущие две строки в финальном фрагменте не срифмованы, хотя выше идёт рифмованный стих) – однако поэтическое чутьё его вело туда, куда ещё никто не ходил. Созвучие это он наверняка увидел – и осмысленно оставил, чтоб иметь возможность в ответ на претензию о дурной рифме ответить: а я и не рифмовал.