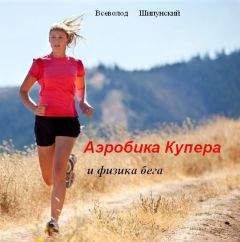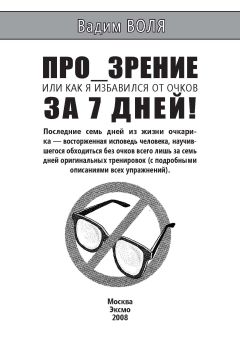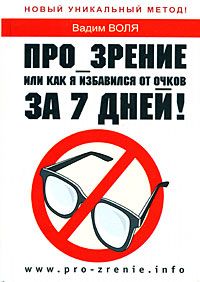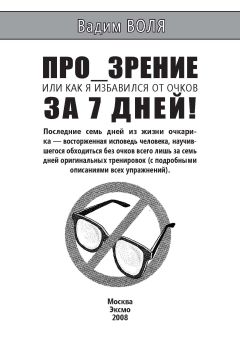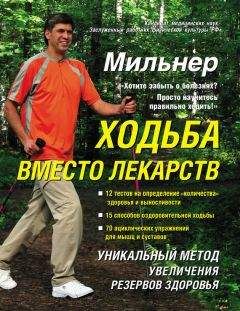Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Можно, если вглядеться, как шествуют преображенцы, ещё раз рассмотреть 21-летнего Катенина…
Вослед за ними шли уже австрийцы и пруссаки – знали своё место.
«…Последовала команда: “Смирно; дирекция налево”, – пишет современник. – Император подъехал к левому флангу.
На царское: “Здорово, ребята!” грянуло громкое “Ура!”, подвигавшееся по мере приближения Императора. Объехав полки, Государь скомандовал: “К церемониальному маршу, повзводно, скорым шагом марш!” Барабаны забили, и музыка заиграла. Конвой заскакал вперед; Государь и свита тронулись за ним… Погода была великолепная и тёплая. На улицах народу было бесчисленное множество; все окна и балконы заняты были жителями с флагами и цветами. Торжество было во всей силе слова. Долго шли мы по улицам, потому что шли повзводно на взводную дистанцию до самой площади Louis XV – между Тюильрийским садом и Champs-Elisees, где Император остановился со свитою, пропуская шедшия церемониальным маршем войска. Поравнявшись с Государем, войска заходили повзводно левым плечом в аллею Елисейских полей».
Далеко не уходя, возле Елисейских полей, преображенцы и расположились на биваках. Порядочно пообедали в близлежащих ресторанах.
…И вот – парижская жизнь.
«Французы вообще не имели никакого понятия о России, – пишет в своих записках другой гвардеец, прапорщик Иван Казаков, – они по невежеству считали её страной дикой, варварской; ничто их так не удивляло, как то, что много русских говорили по-французски. Когда мы проходили через город парадом, слышали, как французы говорили, что будто у всех нас кирасы под мундирами – так их удивляла выправка каждого солдата… и когда приходилось останавливаться, чтобы взять взводную дистанцию, то расстёгивали мундиры, чтобы уверить их в отсутствии кирас. В Париже в то время осталась только первая гвардейская дивизия, в которой вряд ли был тогда какой-либо офицер, не знавший французского языка. И французы вообще – от высшего общества до крестьян – полюбили русских. Французские солдаты были очень дружны с русскими, но в противоположность с последними – с пруссаками и австрийцами были все на ножах».
«Французские дамы, – продолжает Казаков, – явно оказывали предпочтение русским офицерам перед наполеоновскими и про последних говорили вслух qu’ils sentent la caserne[12]; и действительно, мне случалось видеть, как большая часть из них входят в кивере или в каске в комнату, где сидят дамы, говорят, прикладывая руку к козырьку: «Bonjour la compagnie; j’ai l’honneur de vous saluer»[13] и начинают отстёгивать свою саблю».
Красавиц видел чернооких
И не любил.
– признаётся Павел Катенин в стихотворении «Певец Услад» (1817).
Театр волнует его, пожалуй, больше. Самых именитых актёров и актрис того времени – Тальму, Дюшенуа, Потье, Марс, Брюне – он узнает в Париже и даже заведёт со многими дружбу. Видимо, там Катенин получил навыки театральной игры: современники помнят, что сам он отлично декламировал, и, более того, мог преподавать актёрское мастерство.
Удивительное качество: потерявшие сотни товарищей в боях, помнящие сожжённые русские города и зверства, что творили французы, гвардейские офицеры не чувствуют отторжения по отношению к нации недавних своих врагов – но, напротив, готовы учиться у них.
Два месяца проведёт Катенин во французской столице. Летом 1814 года Преображенский полк возвращён в Россию морским путём – на кораблях российской военной флотилии. 30 июля 1814 года преображенцы торжественно вступили в Петербург через Триумфальные ворота.
Вернувшись в Россию, Катенин возобновляет оставленную на два года литературную карьеру; публикует весьма мрачного толка баллады: «Наташа», «Леший», «Убийца».
Весьма бесхитростно, но вместе с тем ясно он выказывает своё патриотическое чувство в балладе «Наташа» (1814), где:
Вдруг поднялся враг войною
Русь заграбить и зажечь;
Всюду льётся кровь рекою,
Всюду блещет огнь и меч…
Героиня говорит любимому:
Не моё девичье дело,
Милый друг, тебя учить;
Не прогневайся, что смело,
Может, стану говорить;
Но прости мне укоризну:
Не сражаться за отчизну,
Одному отстать от всех —
В русских людях стыд и грех.
На что герой отвечает: «Рад, что мысли в нас одне». Литературный критик Александр Казинцев удачно подметил, что в «Убийце» Катенин вдруг находит ту интонацию, с которой вскоре будет написана лучшая русская проза:
…То было летом,
Вот помню, как теперь,
Незадолго перед рассветом;
Стояла настежь дверь.
Вошёл я в избу, на полате
Спал старой крепким сном.
Если переписать в строку – так мог начинаться рассказ Пушкина или глава из прозы Лермонтова. Здесь уже видна та вроде бы бесхитростная, сухая и вместе с тем суровой ниткой прошитая точность русской классики.
Между прочим, в «Убийце» Катенин называет месяц «плешивым» – подобные сравнения начнут позволять себе только веком позже. Пушкин с лёгкой издёвкою пишет, что «читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики». Баллада действительно небезупречна, но точно не из-за плешивого месяца.
Катенину было свойственно демонстративное экспериментаторство; он вовлекал в поэзию не только прозаизмы, но и архаизмы. Неудивительно, что Катенин вошёл в круг Александра Семёновича Шишкова, одного из литературных законодателей той поры, противника галломании.
С карамзинистами – оппонентами Шишкова – Катенин вступил в долгий спор. Как поэты, Жуковский, Батюшков, Вяземский были одарённее Катенина. Но, выступая против всевозможных условностей, вовлекая, не всегда сообразно смыслу и музыкальности, в поэзию вещества разнородные, Катенин шёл в направлении верном.
Грибоедов, заступаясь за Катенина перед современниками, остроумно подметил: «Бог с ними, с мечтаниями; ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, – везде мечтания, а натуры ни на волос».
Ксенофонт Полевой позже писал про Катенина: «…Β эпоху безусловного преобладания чужеземных идей и форм в нашей поэзии, обнаруживал уже особенное предрасположение к народности, сделавшейся теперь общею потребностию всех биений литературной жизни».
О том же говорил и прекрасный поэт Николай Языков: «Правда, что у него везде слог топорной работы, зато много национального и есть кое-где сила – в этом главное!»
Современник – Ф.Ф.Вигель – описывал Катенина так: «Круглолицый, полнощёкий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на конфорке». В числе прочего он подмечал у Катенина «неистощимую хулу к писателям…» (эта черта характера ещё аукнется нашему герою) – «…Ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первою его жертвой».
А какой к тому же был спорщик! Неутомимый.
Катенину в этом деле, вспоминает Вигель, «много помогали твёрдая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал ещё спорить, когда утомлённый противник давно отвечал ему молчанием».
«Никому не хотел нравиться, а всех поражать»; о, это отличная рекомендация. И далее: «Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал».
Катенин признавался, что готов простить, если его назовут мерзавцем или плутом, но, столкнувшись с неприятием собственных сочинений, готов немедленно драться насмерть.
(«Это я дурной поэт? Я тебе сейчас голову прострелю, дурак!»)
Признаемся, что это не самая обнадёживающая черта для литератора. Но Катенину такой характер не помешал написать как минимум один шедевр и стать заметнейшим литератором своей эпохи; хотя, быть может, стать чем-то большим – помешал.
Впрочем, когда в 1816 году Александр Бестужев-Марлинский желчно раскритиковал катенинский перевод «Эсфири» Расина («…сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла… сжальтесь над бедным славянским языком; сами татары так не колесовали его»), и пошли уже толки о возможной дуэли, Катенин до этого доводить не стал: в разговорном запале можно пообещать что угодно, но нелепо было бы убивать человека из-за критической статьи. Ужасно обидевшись на Бестужева, Катенин выберет другую реакцию: последовательно и брезгливо молчать. И, отдадим должное, иногда это действенней.
Характеризующий Катенина случай. В мае 1816-го, после представления во дворце «Эсфири» Расина в переводе Катенина – в присутствии Александра I, – Катенин был приглашён «к высочайшему столу». Вёл себя при этом безо всякого подобострастия, а, скорей, отстранённо. Разговоров, помимо обмена положенными ситуации восклицаниями, фактически не вёл. Как сам после напишет:
Верно бы, царь наградил его даром богатым,
Если б Евдор попросил; но просьб он чуждался.
Александр I, вероятно, подумал: какой скромный юноша.
Нет, дело в другом.