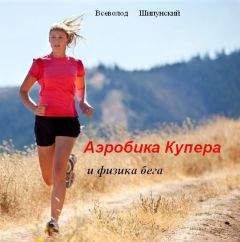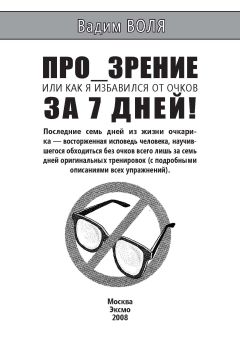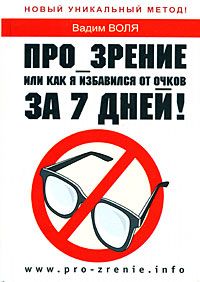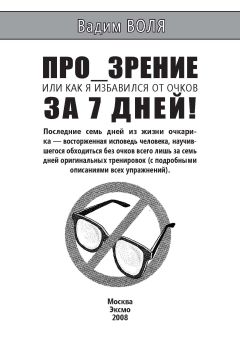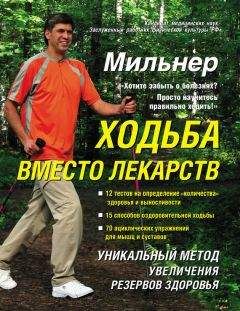Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Следом начались бои.
Катенин участвовал в Аюценском сражении (2 мая 1813-го) – после которого русской армии и союзникам пришлось отступить к Бауцену, где 8 и 9 мая состоялось новое сражение, тоже не приведшее к определённой победе ни одной из сторон.
Важнейшим испытанием в своей жизни Катенин считал участие в сражении под Кульмом в последние дни августа 1813-го.
Незадолго до Кульма, 14–15 августа, Наполеон нанёс поражение союзникам – так называемой Богемской армии – под Дрезденом.
В состав Богемской армии (более 230 тысяч человек и 670 орудий) под командованием австрийского фельдмаршала Шварцен-берга входила русско-прусская армия (120 тысяч человек и 400 орудий) под началом Барклая-де-Толли. При армии находился Александр I, и руководил ей наряду с Барклаем. Вся эта армада, жестоко пострадавшая от военного гения Наполеона, начала отходить в Богемию по единственной дороге. Наполеон отправил 40-тысячный корпус генерала Вандама с целью отрезать Главную армию от Теплицкого шоссе.
Наполеон говорил про Вандама, что если б пришлось воевать в аду – то именно он взял бы дьявола в плен. Впрочем, он был ещё известен как мародёр – и по его же поводу Наполеон сказал как-то, что, если б у него было два Вандама, одного он бы расстрелял.
Сводному отряду (17,5 тысяч человек) под командованием генерала от инфантерии Александра Ивановича Остермана-Толстого нужно было остановить Вандама – или, говоря проще, жертвуя собой, спасти Главную армию. И едва ли не основной боевой силой этого отряда были как раз Преображенский и Семёновский полки.
Писатель Иван Лажечников, сам участник европейского похода, в своих «Походных записках русского офицера» писал: «И многочисленность врагов, и мужество их, многократными боями не утомлённое, и самонадеянность их полководца (Вандама), и защита их самой природой, против нас вооружившейся и стеснившей нашу малую рать между своими грозными утёсами, – всё, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы Севера не считают врагов…»
28 августа произошёл кровопролитнейший бой у Гисгюбеля.
Когда граф Остерман-Толстой с войсками – цитируем исторические документы – «прошёл безвредно до Гисгюбеля и вступил в дефиле», то французы преградили ему дорогу. Здесь в дело вступил Преображенский полк – и показал себя так, как не было возможности показать весь 1812-й.
Преображенцы пошли на неприятеля в штыковую.
Наверное, стоит во всей полноте осознать, что это такое.
Штыковой бой – сочетание напора, исключительной храбрости и смертельной решительности; крайнее нервное возбуждение, переходящее в кровавое остервенение. Но при этом всё перечисленное должно способствовать, а не вредить безупречному сочетанию глазомера, силы и мускульной памяти о навыках.
Смысл штыковой атаки – один, и он прост: надо зарезать человека. Ещё когда бежишь навстречу противникам, ты выбираешь себе жертву – и никакая сила не может отменить твоего решения сделать своё дело: убить.
В штыковой атаке учили убивать всех: бегущих прочь, вставших на месте, присевших, пытающихся лечь. В этом было основное её назначение.
Сближаешься, посылаешь ружьё вперёд, наносишь – с выпадом левой ногой – страшный и стремительный укол в открытое место, и тут же выдёргиваешь штык, времени у тебя нет; никакого проворачивания, вглядывания в глаза, раскаяния и тому подобного.
Скорость и беспощадность.
Но это – если противник открылся. Если он закрыт, то делаешь ложный выпад и, когда противник на него отвечает, бьёшь туда, где он открылся.
Военный опыт гласил: если ты не успел первым нанести удар штыком в доли – именно в доли! – секунды, в следующий миг ты сам будешь ранен или убит.
Но это если ты выбрал себе в жертву одного противника – а если в жертву тебя самого выбрали двое? Как тогда?!
Тогда учили менять положение так, чтоб оказаться лицом к лицу только с одним из них, и колоть их по одному.
При этом штыковая атака не должна была превращаться в свальную резню: надо ещё и видеть товарища, офицера, слышать барабан.
И всем этим занимается человек, совсем недавно переводивший «Ариадну» Тома Корнеля…
О той схватке Остерман-Толстой сказал, что «никогда не видал столь блистательной атаки», – а он был легендарный генерал, воевавший много лет и повидавший немало. Преображенцам, скупо сообщают историки, пришлось «буквально продираться сквозь неприятеля».
И продрались.
Русские войска стали на позиции за Кульмом, у деревни Пристен. Задача русских оставалась прежней: дать Главной армии сойти с гор и встать у Теплица. Задача французов тоже не изменилась: помешать русским во что бы то ни стало. У Вандама было, напомним, двукратное превосходство. (Справедливости ради заметим, что он не смог использовать его в полной мере.)
29 августа началось сражение. Предоставим слово историку Н.А.Могилевскому: «Русские и французские стрелки, ведя частый огонь, не раз сходились на полянах в штыки. Офицеры бились в первых рядах, увлекая своим примером солдат. Гвардейцы совершали чудеса», – видите невысокого, но бешеного, с надменным лицом Катенина в этом грохоте и чаду? «Вандам не мог не понимать, что грохот битвы может привлечь внимание основной союзной армии, а потому он спешил. К трём часам пополудни он бросил в последнюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то ни стало пробить оборону Остермана между левым крылом и центром. Наступил критический момент».
Французы атаковали, русские контратаковали и выбили их.
К вечеру начали подходить основные российские силы.
За день преображенцы потеряли 550 человек убитыми: их проредили почти на треть! Противник, как не прискорбно, ходить в штыковую тоже умел – но русские всё равно оказались сильней, даже будучи изначально в меньшинстве.
Представьте, с каким чувством, с каким красным, дымящимся водоворотом в глазах Катенин и все его товарищи ложились спать в ту ночь: все заляпанные братской и вражеской, а то и своей кровью, потерявшие за день несусветное число товарищей – больше, чем с самого начала войны; в ушах – вопли, выстрелы, разрывы…
А на следующий день сражение было продолжено.
Преображенцы уже не выполняли основную боевую работу, но и стрелять, и нагонять, и добивать бегущего противника – пришлось.
Ударами с трёх сторон корпус Вандама был разбит. Сам Вандам, его начальник штаба, два других генерала и 13 тысяч рядовых попали в плен.
Значение той битвы надо понимать: прусский король, фактически спасённый в те дни, и лично наблюдавший жертвенное мужество русских гвардейцев, пожаловал всем участникам сражения высшую свою награду – Железный крест.
Те кресты были вырезаны и выкованы сразу же – из кожи и железа конского снаряжения, отбитого у французов. Годом позже Железный крест был переименован в Кульмский крест – и через три года в Петербург тем офицерам, что выжили, прислали Кульмские кресты, сделанные уже на совесть: серебряные, покрытые чёрным лаком…
…в Кульме малым великое дело
Делалось, к диву военных, к спасению мирных.
Царь хвалил, чужие сказали спасибо:
Лестно было назваться воином русским.
– это из «Инвалида Горева»; всё так!
«Гордись, Россия! – писал Иван Лажечников. – Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, указывать на родину Леонидов и сципионов: ты перенесла её с этими героями на священную твою землю. Потомство твоё, при новых непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали как спартанцы под Фермопилами! Нет! Сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские под Кульмом»…
Под Лейпцигом, 4–7 октября 1813-го, в «Битве народов» Преображенский полк находился в резерве цесаревича. Наполеон потерпел там поражение, но до Парижа оставались ещё многие месяцы переходов, перемирий – и армейской жизни, и новых переходов.
Нахождение русских в Париже – все эти «казаки на Монмартре» и «бистро, бистро накорми нас, хозяин!» – в сознании многих затмили цену, заплаченную за ту победу.
Между тем битва за Париж, в которой участвовали и преображенцы, была кровопролитной: атаковали город в лоб, в предместьях шли жуткие бои, с перестрелками в упор, новыми штыковыми. Били из окон – врывались в дома, дрались на лестницах, на кухнях, летели сковороды и черепки, всё вверх дном. Некоторые районы несколько раз переходили из рук в руки…
Потери союзной армии составили 8 400 человек, из них – 6 000 русских; так не раз случалось, что за общий триумф самую большую цену платим мы.
В город входили так: через арку в Сен-Дени въехал эскадрон казаков, затем император российский Александр I, прусский король, главнокомандующие, свита, конвой. Следом – Преображенский полк, – ибо все осознавали, какое чудо свершилось под Кульмом.
Можно, если вглядеться, как шествуют преображенцы, ещё раз рассмотреть 21-летнего Катенина…