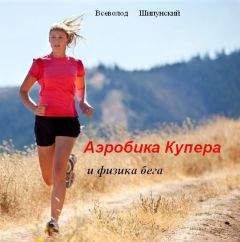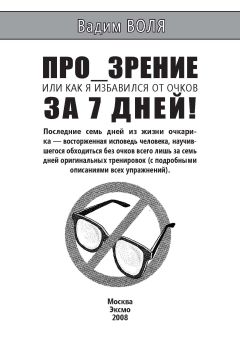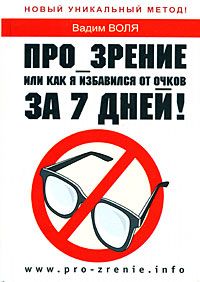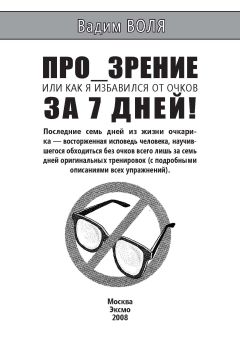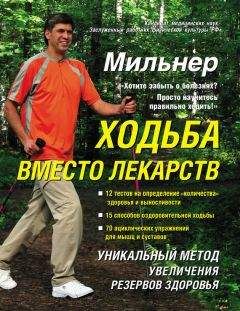Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Поразительно, но в мирной жизни Батюшков так и не отвык бледнеть при виде крови, а современницы писали, что он и после тридцати был «застенчивый». Но ведь – ходил в атаку, командовал ротой, был адъютантом одного из самых дерзких и бесстрашных полководцев той эпохи, участвовал в крупнейших мировых сражениях!
Чувство долга, чувство достоинства, честь и вера – всё это было в нём сильнее всего того тщетного, что иногда именуют «слишком человеческим».
Перечисленные черты отлично сочетались в Батюшкове с тем, что (цитируем Е.Г.Пушкину, его знакомую и корреспондентку) «…он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми».
(Берут ли добродетельные «энтузиасты всего прекрасного» оружие в дни наши? Или в ужасе, и с энтузиазмом, бегут страшного железа?)
«Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность – отличительными чертами его характера», – сказано о Батюшкове.
Он соединял в себе черты, которые ныне стали казаться разнородными – но отчего же: в случае Батюшкова всё органично и просто сочеталось.
Он, мы помним, едко презирал всякий казённый патриотизм, был одним из первейших в России европейцев; но вместе с тем, что есть свобода по Батюшкову? Он отвечает сам:
Отдайте ж мне мою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На родине мой кров,
Покрытый в зиму ярким снегом…
Родина – вот наивысшая степень свободы. «Отчизны вьюги» – это свобода.
Батюшков – весь, казалось бы, задуманный для жизни под мягким солнцем, – осознаёт, что Россия – сурова, холодна, и наше солнце – северное; он несказанно горд, говоря о Ломо-
Носове, что «при льдах Северного моря, между полудиких, родился великий гений».
В 1821 году поэт П.А.Плетнёв, обожавший Батюшкова и желавший ему угодить, напишет о нём: «Потомок древнего Анакреона, / Ошибкой жизнь прияв на берегах Двины…»
На что Батюшков процедил: передайте молодому человеку, что прадед мой был не Анакреон, а бригадир при Петре Великом; никаких ошибок в моём рождении нет – я родился ровно там, где должно.
…В нынешней Вологде тихо и уютно; центральные улочки – небесной русской красы (иногда кажется, что небесный и русский – синонимы). Если пойти вглубь, наверное, начнётся обычный губернский город России, сто раз перестроенный, перекроенный, убитый – но дальше и не надо ходить.
Батюшков стоит с конём на берегу – памятник работы Клыкова. Вид с берега отличный. Только у Батюшкова срезали саблю местные особи человеческого вида – сдали на цветмет.
Верните саблю поэту, пока поэт не разозлился.
А рядом – дом отца Шаламова, где Варлам Шаламов провёл детство.
Что роднит их? Два великих поэта, сложнейшие судьбы – и вместе с тем одно качество, характеризующее и первого, и второго: маниакальная честность.
Досочинить, домыслить, выставить себя в нужном свете – не про них.
Не столь частая в литературе черта, на самом деле.
А ещё оба презирали гедонизм, культ сытой телесной услады.
Да к хижине моей
Не сыщут ввек дороги
<…>
Развратные счастливцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья!
Но ты, о мой убогий
Калека и слепой,
Идя путём-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня;
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убелённый
Годами и трудом,
Трикраты уязвлённый
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками
Как вихор на полях,
И вкруг его рядами
Враги ложились в прах!..
Всё просто, не правда ли? Воин – приходи, будет приют. Развратные счастливцы – идите прочь.
А если был образ истинного счастья для Константина Батюшкова, то вот он:
Какое счастье, рыцарь мой!
Узреть с нагорныя вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гул далёкий
И погрузиться до утра
Под тёплой буркой в сон глубокий.
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот
И ружей протяжённый грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне,
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,
Вперёд! Сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте, ядра и картечи!
Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
Солнечные, полные воздуха и восторга стихи. Гусары, башкирцы, горцы, татары – сердца, вскормленные для сечи, – все свои, все узнаваемы. Нормальная компания для русского поэта.
«Лестно было назваться воином русским…»
Генерал-майор Павел Катенин
Выражение лица у Катенина на сохранившихся изображениях такое, что, кажется, сейчас произнесёт: да вы наглец, милейший.
Семь боевых наград. Лоб высокий, щёгольские усы. Глаза большие, с наглецой. Он вас безусловно застрелит, если вы не правы. Бегите.
…Хотя постойте, мы ещё не рассказали о Катенине.
На самом деле – маленький, но очень стройный; самолюбивый и самоуверенный; с диктаторскими замашками: эдакий коломенский Наполеон.
Впрочем, за «Наполеона» он бы рассердился: он с императором воевал, и делал это превосходно.
В большом стихотворении Катенина «Мир поэта» сменяют друг друга картины ветхозаветные, античные, древнегреческие, и в течение времён впадает русская история…
Лишь зацветут поля весною
И труб раздастся рев,
Уже в них дух кипит войною,
И каждый агнец вышел лев.
<…>
За ними на крылах дух устремился мой.
Какие подвиги, удары, смерти, раны!..
Какие страшные собрались предо мной,
Подобно грёзам сна, живые великаны!..
Неужли сон мысль оковал мою?
Нет; нет, в лицо их узна́ю:
Вот мавров молот Карл, Европы всей спаситель;
Вот Кампеадор Сид, отцовой чести мститель;
Вот веры щит Годфред; вот сердцем лев – Рича́рд;
Вот страха и упрёк не знающий Баярд;
И наши, вот они: и Святослав великий,
Царьградских кесарей соперник полудикий;
И, половцев гроза и страх,
Краса владык, венча́нный Мономах,
И два Мстислава, честь России,
Два храбрые, столпы святой Софии;
И Невский, и Донской!..
Я вижу, движется их строй,
Их очи смотрят, грудь их дышит…
Промолвите, герои древних лет!
Да глас ваш жадный слух услышит;
Хочу рукой моей коснуться вас… Ах! нет!
Нет их! нет никого! мечта воображенья
Мой обманула взор: зарытые землёй,
Для них нет боле пробужденья.
Один, в тиши ночного бденья,
Я здесь с душой, смущённой от скорбей!
Вокруг меня зари свет слабый льётся;
Лицо горит, мрёт голос, сердце бьётся,
И слёзы каплют из очей.
Здесь слышна великая печаль об исходе героев; впрочем, при жизни он не раз мог убедиться, что герои оживают, и времена – повторяются.
Катенина трудно не полюбить за «Инвалида Горева». Тут уже не ода, оглушающая звоном кимвалов, не песнь героическая, а быль, которая честь составила бы и Пушкину. По сути, перед нами – отличная ритмическая проза, правдивая, мудрым голосом читаемая, трогающая сердце безо всяких ссылок на то, что ей двести лет.
Горев сражался, покуда ноги держали:
Рана в плече от осколка гранаты; другая
Пулею в ляжку; пикой в левую руку
Третья; в голову саблей четвёртая; с нею
Замертво пал. Разъезд неприятельский утром
Поднял, а лекарь вылечил. Пленных погнали
Всех во Францию. Минул год с половиной;
Мир заключили, вечный, до будущей ссоры.
С миром размен; и многих оттоль восвояси
Русских услали. Забыли о бедном Макаре!
Беден всяк вдали от родины милой;
Горек хлеб, кисло вино на чужбине:
Век живи, не услышишь русского слова!
В Бресте дали им волю кормиться работой.
Русскому только и надо; и трое французов
С ним не потянутся; наш увидит чужое —
Сметит и вмиг переймёт; они же, бог с ними,
Смотрят на наше, да руки врознь, а не сладят!
В тёплом краю от стужи дрогнут всю зиму;
Жгут в очагах, дрова переводят, а печи
Нет догадки сложить!.. Премудрые люди!
Тем да сем промышляя, нажился Горев;
Выучил ихний язык, принялся за грамоть, —
Нашу он знал, – и мог бы там поселиться.
Дом завесть и жену: позволяли; и денег
Дали б казённых на первый завод; но Макару
Тошно навек от святой Руси отказаться,
Некрестей в свет народить с женой беззаконной.
Думает: «Вырос ли Федя, мой парень отменный?»
Тужит: «Жива ли красавица Мавра Петровна?»
Здесь всё зримо, всё оживает. А как этот Катенин слышит живую речь! Тогда никто так не умел ещё, а он уже мог…
Павел Александрович Катенин родился 11 декабря 1792 года – родовое поместье Шаёво, Кологривский уезд, Костромская губерния.