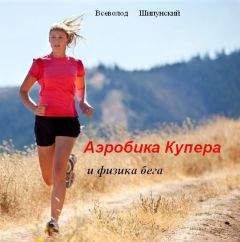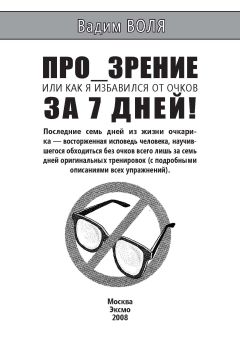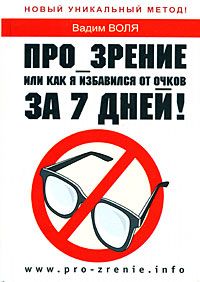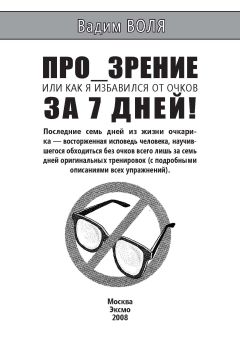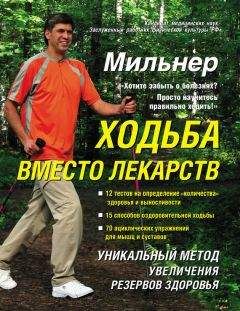Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
«С высоты Монтреля я увидел Париж, – рассказывает Батюшков. – Покрытый густым туманом бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, слева Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее. Мы продвигались вперёд с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа».
Гренадеры зачистили Бондийский лес, взяли Бельвильские высоты. Отсюда начался артиллерийский обстрел Парижа.
19 марта (по старому стилю) состоялась капитуляция французской армии.
«“Слава Богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отомстили за Москву!” – повторяли солдаты, перевязывая раны свои», – из того же письма Батюшкова.
И ещё: «Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо».
Вы когда-нибудь въезжали в европейскую столицу победителем, со шпагою, под ликование толп? Батюшкову можно позавидовать.
Он расположился в замке Сирей, что в деревне Роменвиль. Два месяца проведёт в Париже.
В письме своему приятелю В. Д. Дашкову удивляется сам себе: «Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться необыкновенному искусству Тальмы… стоять в изумлении… перед картинами Рафаэля, в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном саду Тюильри или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских горожан, жриц Венериных, старых роялистов, бонапартистов и проч.»
Праздник носоглотки, как другой поэт написал позже.
Почти ежедневно ходит в музей и смотрит на статую Аполлона Бельведерского. Наблюдает там русских солдат, которые тоже оказались поражены Аполлоном. «Такова сила гения!» – заключает Батюшков.
Известен случай, когда один француз, схватив коня Батюшкова за стремя, воскликнул: «Господин, вас можно принять за француза, вы говорите без акцента!»
«Ночь меня застала посреди Пале-Рояля. Теперь новые явления: нимфы радости, которых бесстыдство превышает всё. Не офицеры за ними бегали, а они за офицерами…»
Нет, всё-таки вообразите себе это: почти бесконечный поход от пожарищ России – к сияющему Парижу, сотни и тысячи убитых людей, лошадей, грязь, холода, дожди, смертоубийство, разверстые раны – и вдруг нежданная награда: парижские бульвары, жареные каштаны, устрицы в шампанском, статуя Аполлона, картина Рафаэля, податливые красотки: «Господин, отчего у вас белокурые волосы? Отчего они так длинны? Можно, я накручу этот локон на палец?»
Думаем, Батюшков находился с ответом.
В мае 1814 года снова заболел – но сейчас он вправе. Увидеть Париж и заболеть.
Выздоровев, отправился в Лондон: ему предложили вернуться домой морем. В Лондоне русских разглядывают как диковину – неужели эти могли победить Наполеона? Впрочем, милы…
Оттуда семь дней на корабле – в Швецию: с другой стороны к этой стране подъехать, пешком – уже бывал.
Из Швеции – через Финляндию в Санкт-Петербург. Там остановился у Екатерины Фёдоровны Муравьёвой – той самой, которую сопровождал в Нижний; она поправилась.
Батюшков попадает в прежний круг: Гнедич, Иван Андреевич Крылов…
Влюбляется в прекрасную девицу Анну Фёдоровну Фурман: высокая, темноволосая, очень стройная немочка, все в неё влюблялись, старик Державин – и тот в гостях за обедом сажал её возле себя.
Батюшков делает Анне предложение… и сам же, спустя некоторое время, ей отказывает: весь в долгах, у отца умерла вторая жена и тот остался с двумя маленькими детьми на руках, к тому ж, похоже, слегка повредился рассудком; сёстры замуж не выходят, на предполагаемые шесть тысяч дохода в столице с молодой женой жить вдвоём нельзя… «А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить под одною кровлею в нищете, без надежды?.. – риторически вопрошает он в письме Муравьёвой, и сам же себе отвечает: – Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни злые сердца».
К его неудавшейся невесте сватается Гнедич – ему уже отказывает сама Фурман; однако Батюшкову всё это мало нравится, и отношения его с Гнедичем на некоторое время становятся весьма натянутыми.
В начале апреля 1815-го Батюшков знакомится с Пушкиным. И знаете, что он советует младому кудрявому юноше? Об этом сам Пушкин расскажет в послании «Батюшкову»:
А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезёю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.
Пушкин напишет, что, мол, я бреду своим путём (хотя, справедливости ради, «войны кровавый пир» воспоёт не раз).
Знаменательно: после войны Батюшков вовсе отказывается от сатиры. Те самые сатирические «Видения на берегах Леты» даже за миллион, говорит теперь Батюшков, не буду печатать – а ведь предлагали ему, постоянно нуждающемуся, большие деньги за эту стихотворную шутку.
Летом Батюшков отправляется из затянувшегося отпуска к своему генералу – тому самому Бахметеву, которого так и числился адъютантом, – в Каменец-Подольский, что в Малороссии.
Обосновавшись там, в письме Е.Ф.Муравьёвой описывал свою жизнь: «Мы живём в крепости, окружены горами и жидами. Вот шесть недель, что я здесь, а ни одного слова ни с одной женщиной не говорил, вы можете посудить, какое общество в Каменце. Кроме советников с жёнами и с детьми, кроме должностных людей и стряпчих, кроме двух или трёх гарнизонных полковников, безмолвных офицеров и целой толпы жидов, – ни души».
«Износил душу до времени», – открывается тогда же Жуковскому.
В 1816 году Батюшков подаёт в отставку: одно дело – воевать, другое – тянуть лямку в какой-нибудь дальней крепости.
Но война не оставляет его – он пишет «Переход через Рейн». Это одно из самых звучных, имперских (оцените размах географический) и милитаристских стихотворений в русской поэзии:
И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Уеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
<…>
Мы здесь, о Рейн, здесь! ты видишь блеск мечей!
Ты слышишь шум полков, и новых коней ржанье,
«Ура» победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят
И вот – коней лихих поят,
Кругом заставя дол зыбучий.
Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжёлой конницы строи
И лёгких всадников рои —
В текучей влаге отраженны!
Там слышен стук секир – и пал угрюмый лес!
Костры над Рейном дымятся и пылают!
И чаши радости сверкают,
И клики воинов восходят до небес!
«Мы здесь, сыны снегов… Под знаменем Москвы… Взвивая к небу прах летучий… и клики воинов… Какой чудесный пир для слуха и очей!»
Ничего более впечатляющего, чем война, Батюшков не знал. Он даже стихи свои строил в сборнике по военному образцу. В 1816 году Батюшков решает издать том стихов и том прозы (на его книгу в Москве и Санкт-Петербурге подписывается более двухсот человек: по тем временам – вполне себе успех) и пишет Гнедичу: «Советую элегии поставить вначале. Во-первых, те, которые тебе понравятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк строят. Дурных солдат в середину».
Отзывы на его книжку будут отличные: о нём убеждённо заговорят как о первом стихотворце эпохи.
Но он всё чаще болеет: мучает то первая рана, то хандра, то ещё что-то, томительное и неведомое, – хотя, впрочем, догадаться мог. Только поделиться было не с кем: разве таким делятся? Про страшную смерть его матери мы помним. 24 ноября 1817 года умирает отец – и Батюшков знает, что незадолго до смерти он окончательно тронулся рассудком.
Это было – как отложенный приговор.
Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет, и трепещет?
Откуда я? какой прошёл ужасный путь
И что за мной ещё во мраке блещет?
– вопрошает Батюшков.
Летом 1818 года он едет в Одессу. Там получает известие о назначении в Италию в составе Государственной коллегии иностранных дел – с жалованием тысяча рублей в год; но, ещё не уехав, по остроумному замечанию А.И.Тургенева, «…начинает уже грустить… по снегам родины, которой ещё не успел покинуть».
19 ноября 1818 года собралась отличная компания в Царском селе – Екатерина Фёдоровна Муравьёва и её Никита, Гнедич, Жуковский, Александр Пушкин: провожали Батюшкова, пили шампанское…
В Рим Батюшков прибыл в январе 1819-го. Сразу бросился гулять, смотреть, любоваться – и вскоре простыл, слёг. Перебравшись в Неаполь, поселился на набережной Санта-Аючия.