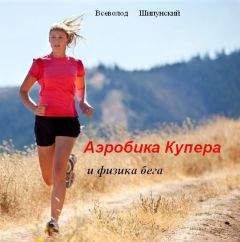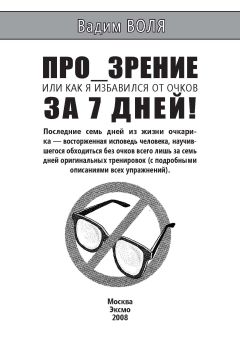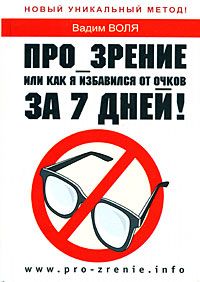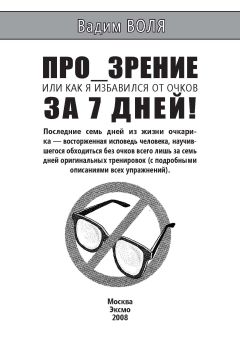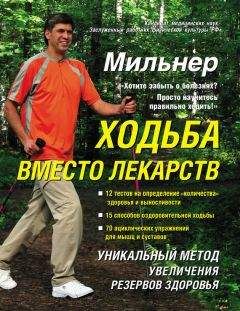Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Для корпуса Раевского сражение началось 29 августа: французы пытались прорваться к подножию гор, но после трёхчасовой перестрелки их загнали обратно в горы.
«На высотах Кульмы я снова обнял его посреди стана военного, после победы, – вспоминал Батюшков встречи с Петиным. – Несколько часов мы провели наедине, и я заметил, что сердце его не было спокойно».
В Альтенбурге, на походе, Петин нагнал Батюшкова – попрощаться; отчего-то был взволнован и, взбираясь на коня, не смог опереться о стремя раненой ногой – рухнул наземь. Засмеялся – и вдруг сказал: «А дурной знак для офицера».
«4 октября началась ужасная битва под Лейпцигом, – пишет Батюшков в очерке «Воспоминание о Петине». – Я находился при генерале Раевском и с утра в жестоком огне, но сердце моё было спокойно насчёт Петина: я знал, что гвардия ещё не вступила в дело».
«…Для меня были ужасные минуты, – расскажет Батюшков в письме Гнедичу, – особливо те, когда генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один, по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, что это была риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни своей не видел…»
«Направо, налево всё было опрокинуто, – вспоминает Батюшков в своих дневниках тот день. – Раевский стоял в цепи, мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его…
Французы усиливались. Мы слабели, но ни шагу вперёд, ни шагу назад: минута ужасная. Я заметил изменения в лице генерала и подумал: “Видно, дело идёт дурно”. Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: “Батюшков, посмотри, что у меня”. Взял меня за руку (мы были верхами) и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул её и очень хладнокровно посмотрел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: “Молчи!” Ещё минута – ещё другая – пули летали беспрестанно, – наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: “Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко!” Отъехали. “Скачи за лекарем!” Поскакал. Нашёл двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился…»
(Именно об этом сражении и об этом дне один из современников напишет: «Было одно роковое мгновение, в котором судьба Европы и всего мира зависела от твёрдости одного человека». Речь о Раевском и роли его корпуса. В тот день были спасены три европейских монарха сразу: против Наполеона воевали также Австрия, Пруссия и Швеция.)
«…Мы раздели его. Сняли плащ, мундир, фуфайку, рубашку – пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою. Мы суетились, как обыкновенно водится в таких случаях. Кровь меня пугала, ибо место было очень важно: я сказал это на ухо хирургу. “Ничего, ничего”, – отвечал Раевский (который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш), и потом, оборотясь ко мне: “Чего бояться, господин Поэт (он так называл меня в шутку, когда был весел”.
Следом, продолжая свою фразу, Раевский прочёл двустишие на французском: “У меня больше нет крови, которую давала мне жизнь. / Она в сраженьях пролита за родину”».
Пожалуй, иной радетель правды жизни мог бы сказать, что эта патетичная сцена выдумана. Но Батюшков пишет: «За истину ручаюсь. Я был свидетелем».
На другой день он узнал, что Петин убит и уже похоронен в ближайшем селе…
30 октября пишет Гнедичу: «6 числа французы отступили к Лейпцигу. Генерал с утра был на коне, но на сей раз он был счастливее. Ядра свистели над головой, и всё мимо. Дело час от часу становилось жарче. Колонны наши продвигались торжественно к городу…И все три армии, как одушевлённые предчувствием победы, в чудесном устройстве, теснили неприятеля к Лейпцигу. Он был окружён, разбит, бежал. Ты знаешь последствия сих сражений. Мы победили совершенно.
И русский в поле стал, хваля и славя Бога!»
Едва ли можно оспорить, что в одной этой фразе более славе-нофильства, чем в целых патриотических трактатах.
В тот же день, 7 октября, выполняя поручение Раевского, Батюшков угодил в приключение, из которого поначалу и не чаял выбраться: «Я ехал с казаком, как обыкновенно. Миновав нашу армию и примкнув к Бениксоновой, я пустился далее – к принцу. Вот подъезжаю к деревне (Бениксонова армия уже закончилась); проезжаю деревню, лес и вижу несколько батальонов пехоты; ружья сомкнуты в козлы, кругом огни. Мне показалось, что это пруссаки; я к ним. “Где проехать в шведскую армию?” – “Не знаю, – отвечал мне офицер во французском мундире, – здесь вы не проедете”. “Но какое это войско?” – спросил я, показав на окружающих меня солдат, которые вкруг меня толпились и пожирали глазами незнакомца. “Мы – саксонцы”. “Саксонцы! Боже мой! Саксонцы, – подумал я, бледнея, как некто над святцами, – так я заехал сам в плен!” И, не говоря ни слова, поворотил коня назад, размышляя: если поскачу, то они дадут по мне залп… “И птички для меня последнее пропели”. Нет, лучше шагом, – авось они меня примут за баварца, за италиянца, хуже – за француза, если хотят, только не за русского».
Нервы у субтильного и кукольного Батюшкова оказались преотличные.
– Что с вашим благородием? – спросил Батюшкова поджидающий его неподалёку казак (хорошо, что не отправились вместе: эту личину никто за итальянскую не принял бы). – Что-то вы бледный?
– Молчи, урод, – наклонившись к нему, на самое ухо сказал Батюшков.
Но закончилось всё ещё смешнее.
Навстречу ему ехал австрийский офицер – Австрия, напомним, уже была в союзе с Россией.
– Бога ради, кто там стоит? – спросил Батюшков.
– А, это ж саксонцы, – ответил австрияк. – Они вчера перешли на нашу сторону с пушками и с конями.
Тогда Батюшков вернулся назад к саксонцам: «…Пожелал новым товарищам доброе утро и хохотал с ними во всё горло, рассказывая мою ошибку и запивая их водкой мой страх и отчаяние».
22 генерала, триста пушек и три тысячи семьсот пленных французов было результатом той победы. За лейпцигское сражение Батюшков представлен был к ордену Святой Анны второй степени.
Сразу по окончании дела у Раевского началась горячка: недавнее ранение и прежние многочисленные раны дали о себе знать. «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы», – сказал однажды Наполеон о Раевском. Что ж, Наполеон знал толк в маршалах. Раевский покинул поле боя только после полной победы.
Батюшков остался при своём генерале: вместе жили они в Веймаре. В местном театре, между прочим, видели Гёте.
«…Про себя с удовольствием отдаю ему справедливость, не угождением, но признательностью исторгнутую. Раевский – славный воин и иногда хороший человек; иногда очень странный», – писал Батюшков.
В декабре, завершив лечение, Раевский и Батюшков вернулись в действующую армию.
31 декабря 1813 года отчитывается Гнедичу: «Итак, мой милый друг, мы перешли за Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось: в виду Базеля и гор, его окружающих, в виду крепости Гюнинга мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали “ура!” – и перешли за Рейн…Эти слова – “мы во Франции” – возбуждают в моей голове тысячу мыслей, которых результат есть тот, что я горжусь моей родиной в земле её безрассудных врагов. В этой стороне Эльзаса жители говорят по-французски. Вообрази себе их удивление. Они думали, по невежеству, разумеется, что русские их будут жечь, грабить, резать, а русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и общаются с ними ласково и дружелюбно».
Хозяйка одного из домов спросила у Батюшкова доверительно: «А эти русские – они христиане, как мы?»
«Этот вопрос можно было сделать им, но я промолчал».
Получивший за битву под Лейпцигом генерала от кавалерии, Раевский теперь командует авангардом Главной союзной армии.
Батюшков пишет Гнедичу: «До сих пор я доволен моим состоянием и не променяю его на другое». В составе корпуса Раевского блокировал крепость Бельфор в Южном Эльзасе; затем в Шампани участвовал в сражении при Провене.
15 апреля – бой под Арси-сюр-Обе, где Раевский лично возглавил атаку союзных войск, и с ним рядом был его адъютант. «Сражение было жестокое, но непродолжительное», – отчитался Батюшков Гнедичу.
Следом – битва под Фер-Шампенуазом.
«Зрелище чудесное! – сообщал Батюшков Гнедичу. – Вообрази себе тучу кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врезывается в пехоту, а пехота густой колонной, скорыми шагами отступает без выстрелов, пуская изредка батальный огонь. Под вечер сделалась травля французов. Пушки, знамёна, генералы – всё досталось победителю».
В марте корпус Раевского атаковал французскую кавалерийскую бригаду и отбросил её к городу Мо. И вот уже – сшибки авангарда на походах к Парижу. Неужели дошли? Неужели это возможно?
«С высоты Монтреля я увидел Париж, – рассказывает Батюшков. – Покрытый густым туманом бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, слева Венсен, там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее. Мы продвигались вперёд с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа».