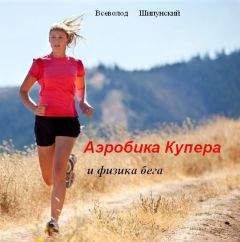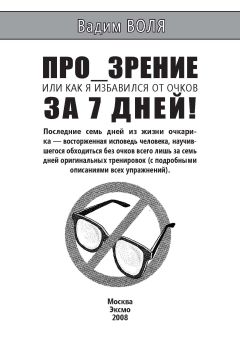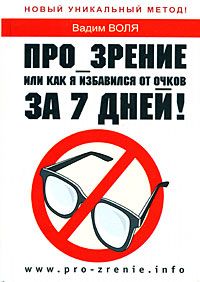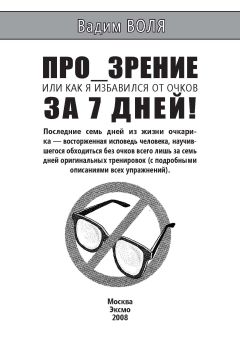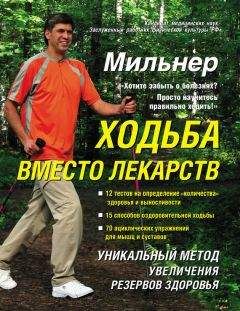Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Сын генерал-майора – боевого генерала суворовской школы. Тогда у военных ещё рождались дети, способные писать стихи и увлечённые этим.
По матери – внук директора Сухопутного кадетского корпуса, генерал-поручика А.Я.Пурпура (грека по происхождению; отсюда смуглость лица у Катенина).
Домашнее образование он получил отличное, на редчайшем уровне. Когда в 1806 году Катенин приехал в Петербург служить чиновником в Министерстве народного просвещения, он уже владел французским, знал латынь, худо-бедно понимал по-немецки, итальянски, английски и был неплохо знаком с греческим. В ту пору ему было… четырнадцать лет. Вскоре всеми этими языками он овладеет вполне.
Сослуживцами Катенина были поэты Николай Гнедич и Константин Батюшков.
С 1809 года Катенин, как многие из русских поэтов, переводит и переписывает на свой лад что-то из Вергилия, что-то из Вийона, что-то из Оссиана. Вскоре начинает публиковаться.
С марта 1810-го – на военной службе: определился портупей-прапорщиком в Преображенский полк, лейб-гвардейское формирование императорской армии, созданное ещё Петром Великим, который сам числился полковником полка. Теперь же тёмно-зелёный мундир Преображенского полка любил носить император Александр I.
Преображенцами были в своё время Гаврила Державин и Николай Карамзин, а к приходу Катенина там служил другой поэт – легендарный Сергей Марин, автор слов для песни, сочинённой ещё в 1805 году и ставшей общевойсковой: «Пойдём, братцы, за границу / Бить Отечества врагов».
Эти задорные слова были камертоном для преображенцев. Врагов дома ждать не след. Если они за границей – можно сразу к ним.
В 1811-м – Катенину девятнадцать лет – на петербургской сцене ставят переведённую им трагедию Тома Корнеля «Ариадна». (Помните, в «Евгении Онегине»: «Там наш Катенин воскресил / Корнеля гений величавый…»)
Батюшков (всего на три года старше) интересовался: «Как там наш маленький Катенин? Он с большим дарованием».
Перед самой войной умирает его невеста. Потрясение было сильнейшим (никогда не женится после и детей не заведёт).
В стихах Катенина будет об этом сказано:
Певец Услад душе покою
Искал в войне,
А враг тогда грозил войною
Родной стране.
Певец Услад на поле битвы
Не изнемог:
Так, знать, друзей его молитвы
Услышал Бог.
Но это в стихах.
В суровой и прозаической жизни всё это обстояло не менее любопытно и грозно.
Катенин был пехотинец.
Романтическое воображение, когда мы задумываемся о воинах той поры, куда чаще представляет нам разнообразную конницу – гусаров, улан, драгунов. Но вот что писала «кавалерист-девица» Н.А.Дурова: «Вот идёт прекрасная, стройная, грозная пехота наша! главная защита, сильный оплот Отечества! Это герои, несущие смерть неизбежную! Кавалерист наскачет, ускачет, ранит, пронесётся, опять воротится, убьёт иногда; но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю: это всё только предвестники смерти! Но строй пехоты – смерть! Страшная неизбежная смерть!»
Принц Евгений Вюртембергский, командовавший русской пехотой, утверждал: «Я имел довольно случаев ознакомиться с русским войском, и достоинства, которые приписывают ему, не преувеличены. Русский рекрут обыкновенно терпелив, очень понятлив и легче свыкается со своей новою неизбежною участию, нежели сколько бы того можно было ожидать во всякой другой земле… Офицеры вообще очень храбры; исключения тому я видел в весьма немногих случаях: трусу мудрено удержаться между товарищами, и, может быть, от этого все почти известные мне фронтовые офицеры смелы, даже чересчур отважны…»
«Наставления господам пехотным офицерам…» российской армии предлагали трусливых солдат расстреливать прямо во время сражения «без потери во времени».
Уставы прямо говорили пехотинцам, что сражаться надо – насмерть, а если пришла пора неминуемая – «так и умри». Всё было очень честно.
«Между… офицеров излишеством почитается упомянуть о необходимых качествах неустрашимости, – гласили «Наставления…», – ибо ежели дух храбрости есть отличительный знак всего русского народа, то в дворянстве оный сопряжён со святейшим долгом показать прочим всегда первый пример как неустрашимости, так и терпения в трудах и повиновения к начальству… Вообще к духу смелости и отваги надо непременно стараться присоединить ту твёрдость в продолжительных опасностях и непоколебимость, которая есть печать человека, рождённого для войны».
Приказ П.И.Багратиона от 25 июня гласил: «Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе что как сволочь со всего света, мы ж – русские и единоверные. Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пули мимо. Подойди к нему – он побежит. Пехота, коли!»
Боевое крещение Катенин принял на Бородинском поле.
Преображенский полк стоял на второй линии обороны батареи Раевского. Грохот был невообразимый: французы бомбили батарею из 120 орудий сразу.
Преображенцы теряли людей, несмотря на то что находились в резерве: неприятельская артиллерия доставала до них. От артиллерийского огня было в несколько часов убито 26 и ранено 125 преображенцев.
Характерно, что пехоте было, как правило, запрещено «кланяться ядрам» – то есть, слыша свист летящего ядра, солдаты должны были по-прежнему держать строй, не двигаться и, спокойно глядя в небо, ожидать смерть.
Документы гласили: «Иногда полк под ядрами хотя сам и не действует, но смелым и устроенным тут пребыванием великую пользу всей армии приносит».
Впрочем, в день Бородинского сражения для одного из пехотных полков, стоявших неподалёку от преображенцев, на первой линии батареи Раевского, было сделано исключение. А.X.Граббе вспоминал: «По выдавшейся углом нашей позиции огонь неприятеля был перекрёстный, и действие его истребительно. Несмотря на то, пехота наша в грозном устройстве стояла по обе стороны Раевского батареи; Ермолов послал меня сказать пехоте, что она может лечь для уменьшения действия огня. Все оставались стоя и смыкались, когда вырывало ряды. Ни хвастовства, ни робости не было. Умирали молча. Когда я отдавал приказание Ермолова одному батальонному командиру, верхом стоявшему перед батальоном, он, чтобы лучше выслушать, наклонил ко мне голову. Налетевшее ядро размозжило её и обрызгало меня его кровью и мозгом».
Французская конница несколько раз выходила в тылы; её отражали ружейным огнём.
Французы описывали происходящее на батарее так: «Редут был похож на настоящий огнедышащий кратер; здесь и там лежали целые горы трупов; на полуразрушенных брустверах были разбиты все бойницы, и при вспышках выстрелов можно было различить только одни жерла пушек; однако большая часть орудий уже была опрокинута или сброшена с разбитых лафетов».
К трём часам дня, после чудовищной мясорубки, французы взяли батарею Раевского. (Подсчитано, что свыше трети всего количества убитых и раненых французов в Бородинском сражении – погибли и были ранены именно здесь.)
Вскоре после этого начались атаки французской кавалерии на центр русской позиции. Здесь преображенцам уже пришлось вступать в дело: барабанный бой, залп, короткая штыковая…
Ближе к вечеру на эти позиции явился Наполеон, решая, вводить ли в бой гвардию. Тогда бы Преображенский полк, где служил Катенин, рисковал столкнуться лицом к лицу с лучшими воинами в мире. Но Наполеон не рискнул вдали от Франции ставить на кон свой последний резерв.
С наступлением темноты французы отошли. В течение ночи русские вновь заняли позиции на батарее Раевского.
Сражение закончилось.
Дальше предстояли долгие походы.
В «Инвалиде Гореве» имеются отличные зарисовки воинской службы.
…Бывало,
Холод, грязь, сухарей ни крошки, а весел:
Люди с тобой! Угольком на биваке закуришь
Трубку: соси да болтай, и голод не пикнет;
Перевязь чистишь, суму, ружьё, – и не скучно.
Чёрные дни втерпёж, а мало ли красных?
Какая всё-таки здесь русская, жизнеутверждающая интонация слышна.
Преображенцев в кампанию 1812-го берегли: после того как Наполеон оставил Москву, вместе со всей армией они шли по следам неприятеля, но в крупных сражениях не участвовали. Черёд их наступит уже в европейском походе.
1 января 1813 года полк в составе колонны генерала Тормасова в Высочайшем присутствии перешёл реку Неман.
12 февраля расположился на квартирах у Калиша. 21 марта участвовал в параде войск в присутствии императора Александра и короля прусского Фридриха Вильгельма III. В апреле преображении в составе войск гвардии торжественно вступили в Дрезден (заметим, что это был третий парад в Дрездене: сначала там покрасовался русский поэт Денис Давыдов со своим отрядом, потом русский поэт Фёдор Глинка в составе авангарда Милорадовича, а теперь вот пришла пора Катенину пройтись).