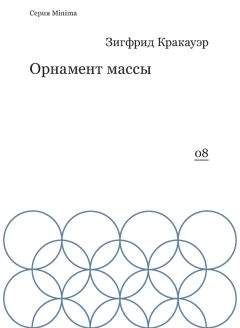Огюст Роден - Беседы об искусстве (сборник)
Да, греки были правы, говоря, что красота – добродетель; эта спокойная, далекая от всякого неистовства, серьезная, сдержанная красота, которую они любили и завещали нам, ту красоту, что скрывает свою силу под изящным покровом грации.
Эта грация, как для них, так и для нас, – в гибком, ловком, легком, сильном, энергичном жесте. Эта грация вплоть до нынешнего времени оживляет у нас все, что еще не безвозвратно сломлено, побеждено. – Окружающие меня юные девочки, молодые женщины сами не знают, что являются совершенными образцами грации.
О, это святое очарование истинной женщины, неведомое большому городу!..
Я возвращаюсь к малым приделам, которые мне так нравятся, – разнообразные маленькие ренессансные капеллы, окружающие весь собор изнутри.
Там я вдыхаю божественное благоухание, аромат этого каменного цветка. Их столь многоликая красота выдерживает сравнение с самыми прекрасными греческими произведениями. Какие дивные композиции!
Быть может, это было состязание меж вами, мастера? И как же вас звали? Брунеллески, или Донателло, или Гиберти? По крайней мере, вы были не ниже их. Лично я нахожу в вас даже больше насыщенности, меньше холодности, чем в великих итальянцах. – А ведь Богу ведомо, до чего я их люблю!
Как бы я хотел созвать сюда своих друзей, – и всех остальных! – чтобы поделиться радостью, которую испытываю! Но никто этого не хочет. Только для меня, для меня одного – кажется мне… – эти шедевры оплакивают свое разрушение, подготовленное и обеспеченное преступными заправилами нашей так называемой цивилизации.
О Франция, ведь ты божественная земля, где нашел прибежище Аполлон, – так может ли статься, чтобы ты впала в это смертолюбивое варварство? – Ему нравится уничтожать или похабить прекрасное, оспаривать, подвергать сомнению человеческий гений, его творения, эти сокровища поколений, и великолепие природы, и великолепие воссоздания ее человеком!
Ибо ложь, что хуже смерти, потрудилась здесь вместе с ней. И тишина святилища потеряла свое истинное значение теперь, когда алтарные витражи заменены. Эти колонны всего лишь пошлое штукарство: они ничего больше не несут, только свои раны. Эти раны еще прекрасны, они рассказывают страдальческую героическую историю. Но новые варвары не видят эти стигматы; они не поняли бы их, даже если бы вознамерились рассмотреть. Они вопят, бьют, разрушают – или же стирают, меняют, искажают. Толпа им не перечит.
И молитва уже не у себя дома среди этих поруганных камней.
Как глубоко, как благозвучно раскатывается человеческий голос в этой церкви! Двое рабочих в углу толкуют о своих делах: это так веско, словно слова приобрели новую цену.
Фронтон Ланского собора, барельеф с изображением Богородицы. Восхитительная скульптурная композиция.
Ангелы являются за Пресвятой Девой. Впечатление снежной чистоты. Они ее будят. Двое из них держат кадила. Это ощутимое воскресение.
Страшный суд.
Апостолы сидят справа и слева от Христа, который замыкает Собою свод.
Какое начало у этой арки! В точке завершения поднимает руку святой Себастьян.
Дуги свода – птичьи крылья.
Я смотрю на этот свод давно и уже не ощущаю усталости. Мне кажется, у меня тоже есть крылья.
Какая радость, снова оказавшись в своем маленьком гостиничном номере, чувствовать себя в двух шагах от чуда, от этого безмолвного исполина, хранителя города!
Такие великие памятники – деревья человеческого леса. Века их упрочили… Но и топор человеческий у корня их, как у корня других деревьев, порождающих прекрасные пейзажи…
О! Я горю нетерпением увидеть их снова. Мой ум может забыть, мне необходимо познать заново…
Ланский собор мертв больше чем наполовину.
Однако то, что в нем еще можно увидеть, превосходит силы восхищения.
Какая смелость в многообразии! Какое изумительное чувство эффекта!
Рабле, Дю Белле, Ронсар (я думаю о малых ренессансных приделах), не вы ли замыслили планы этих капелл? Или зодчий был вашим братом? – (Я говорю здесь: Ронсар, но не Расин.)
О чудеса, я уже оплакиваю вас… Однако вы еще существуете! Кто знает? Быть может, вы возродитесь.
Все поправляется, возвращается или восстанавливается с течением времени. Пробьет час, когда художники поставят перед собой великую задачу: вернуть Духу отнятое у Него достояние. Но ведь должен же был кто-то первым напомнить им об этом долге…
Я лишь предвестник. Да, я понимаю: придет другой!
О счастье! – но кто? И пусть я ему в подметки не буду годиться! Разве не пора? Ибо эти камни скоро совсем умрут!
Поторопимся же спасти их душу в нас самих! Художники, разве не в этом наш долг? Не в этом ли наша выгода и единственное средство защитить себя от варварства?
Давайте же любить, восторгаться! Сделаем так, чтобы и вокруг нас любили и восторгались. Если творению гигантов, воздвигших эти почтенные здания, суждено погибнуть, то поспешим услышать урок великих мастеров, прочесть его в их творении и постараемся его понять, чтобы не впасть в отчаяние – нам или тем, кого мы любим больше себя, нашим детям, – когда это творение и вправду исчезнет. Божественная природа переживет его и будет все так же говорить великим языком, который слышали эти мастера и дивным образом воплотили здесь, для нас. Избавим же себя от боли и стыда запоздалой мысли, что мы бы тоже услышали Его, если бы слушали Их.
10
Шартр
(заметки, сделанные в разное время)
…Я не зря потрачу свой день!
Поезд мчится. Длинные ленты дорог, желтые, зеленые, шоколадно-коричневые поля, все проносится мимо под незыблемым небом.
Мы едем в Шартр.
Я довольно часто бывал в этом соборе. Но сегодня он предстал предо мной совсем новым, прекраснее и великолепнее, чем когда бы то ни было, и я принялся изучать его, словно увидел в первый раз.
Шартр прославил себя навеки.
Шартр, великолепнейший из всех наших соборов!
Разве это не Акрополь Франции?
Чертог Тишины. Его заполняют толпы; группы ходят взад-вперед вокруг его дверей, по его нефам, поднимаются и спускаются по ступеням его башен, беспрерывно, в течение веков, все так. Но это древнее нескончаемое движение ничуть не нарушило его тишину. Это потому, что все замолкают пред чудом – от смутно ощутимого счастья или от восхищения, которое превосходит слова.
День и ночь украшают его в равной степени, но по-разному: пробуждая в нем либо утонченное изящество, либо грозное величие.
О! Как удивляются просвещенные и усталые умы нашего времени, обнаружив так близко от средоточий нынешней суеты этот спокойный и возвышенный итог векового поиска и осуществления прекрасного! Можно молиться Богу в Шартре, как и повсюду, поскольку Он повсюду; но здесь можно также созерцать проявление человеческого гения, а вот это найдешь не везде…
Наши предки осуществили здесь свой главный труд, когда гений народа познал период всемогущества, сравнимый с тем, что познала Греция в пору своего наивысшего расцвета.
Бледные тени тех, что жили тогда; мы приходим утолить жажду из родников, брызнувших из их гения и веры: из источников света! Понять, полюбить эту несравненную эпопею – значит возвыситься самим. Здесь нас озаряет неземной свет.
Собор окружен верными и могучими друзьями, которые поддерживают его в молитвенной позе, как евреи поддерживали простертые к Богу руки Моисея. Эти друзья – контрфорсы. Шестнадцатиметровые гиганты, светлые внизу, все больше и больше чернеющие по мере приближения к кровле. Их присутствие, их поддержка особенно способствуют общему впечатлению задумчивой силы, которое производит памятник в целом.
И с оснований этих контрфорсов, с фундамента знаменитой колокольни устремляются вверх пилястры, которые сперва вздуваются, словно собираясь с силами, и набирают разбег, чтобы взметнуться еще выше; это настоящий всплеск.
Как контрфорсы нефа, похожие на корабельные лестницы, мощны и приземисты в противоположность контрфорсам колокольни!
У каждого из них наверху есть маленькая ниша, где в тени укрывается статуя.
Все планы в полутонах. Сила заключена в темноте, которая не скупясь очерчивает крупные фигуры.
Архитектурные линии – единственные, которые имеют значение в высеченных фигурах Шартрского собора. Чутье работавших здесь гениальных художников подсказало им, что человеческое тело профилируется архитектурно, что оно, так сказать, само по себе порождает архитектуру таким же образом, что деревья и горы.
Как жесты этих фигур правдивы, просты и значительны! Они наклоняют голову с любопытством и одновременно со смирением… Свободные человеческие жесты всегда прекрасны. Но жесты статуй, повторяемые на протяжении стольких веков, приобрели какую-то священную, истовую величавость.
И все же… Тридцать лет назад я впервые увидел правый боковой портал. – Сколько изменений! Я уже не нахожу той мягкости, той дивной оболочки, благодаря которой статуи появлялись, словно окутанные утренним туманом, который позволял видеть только основные черты. Я уже не нахожу среды, созданной настоящими художниками.