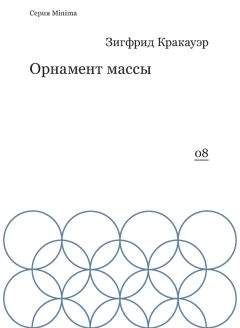Огюст Роден - Беседы об искусстве (сборник)
И все же… Тридцать лет назад я впервые увидел правый боковой портал. – Сколько изменений! Я уже не нахожу той мягкости, той дивной оболочки, благодаря которой статуи появлялись, словно окутанные утренним туманом, который позволял видеть только основные черты. Я уже не нахожу среды, созданной настоящими художниками.
Увы! Всё уничтожили последующие реставрации, все одинаково достойные осуждения.
Но мне только что было видение, и я закрываю глаза, пытаясь его удержать: эта женщина, этот старик среди скульптур левого портала – какое сверхчеловеческое знание Плана!
• Не этого ли в точности знания, этой науки наук, единственного знания, первоосновы скульптурной архитектуры больше всего не хватает в наше время?
Этим погожим днем я вижу во всей их четкости строгие, необычайно выразительные и при этом сведенные почти к прямым линиям профили. Какая смелость! Она неизменно меня удивляет. Мы так привыкли пренебрегать сутью, что ее выражение стало невразумительным.
О красота дуг архивольта! Я присмотрелся к ним только сейчас, хотя вот уже три дня изучаю, восхищаюсь… Но я немного ослеплен таким великолепием.
Как же я не исследовал их раньше! Правда, тогда я, возможно, не понял бы их. Может, сейчас, когда мои восторги основываются на столь надежной уверенности, я срываю плод усилий всей моей жизни? – Только бы мой пример нашел некоторый отклик у истинных ценителей Прекрасного!
Прославленные создатели Парфенона, признайте это творение ваших собратьев, вашей ровни. В великой науке скульптурного пленэра готические мастера разбирались не хуже вас.
А я – да простится мне это личное отступление, – разве не исходил я весь ансамбль по вашим и по их стопам? Не приблизился ли я к вам немного, греческие и готические мастера, со своей статуей Бальзака, о которой можно говорить все, что угодно, но которая от этого не перестает быть решительным шагом в скульптуре под открытым небом?..
Тайна готики! Постараемся понять греков: если сможем, нам останется сделать лишь небольшое усилие, чтобы понять наши XII и XIII века.
Суровая и любезная сердцу учеба! С каким воодушевлением я ее продолжаю! Сегодня мне ниспослана награда за столькие годы упорного труда.
Я вхожу…
Сначала крайнее ослепление не позволяет заметить ничего, кроме ярких фиолетовых пятен; затем взгляд мало-помалу различает громадную аркаду, что-то вроде стрельчатой радуги, которая вырастает из-за колонн.
Тайна постепенно рассеивается, постепенно обрисовывается архитектура. И охватывает необоримое восхищение.
Что меня всегда глубже всего волнует в этой церкви, так это внушаемое ею ощущение мудрости.
Шартрский собор мудр и напряженно-страстен.
Подвиг силы и труда. Чертог мира и тишины.
Большая бледная арка тени поддерживается колоннами. Меж ними зияет жесткая, плотная темнота, предназначенная уберечь ее и от тяжеловесности, и от дряблости.
Речь здесь идет о героическом покое.
И вся целиком церковь скомпонована с таким знанием гармонии, что каждый из элементов композиции встречает во всем остальном мощный отзвук. – В контрфорсах, например, это красота противопоставления: приземистые контрфорсы, стройные пилястры; покой повсюду, где он возможен, чтобы оттенить дивное впечатление всплеска вверх и суеты сборищ у входа.
В самой этой суете сохраняется некая мера, продиктованная архитектурой монумента и его предназначением.
Так, сегодня утром меня обогнала процессия юных девочек. Мне кажется, будто задышали и задвигались изваяния собора. Будто спустились со стен, чтобы преклонить колена в нефе. Какое родство между ними и этими детьми! Они одной крови. Шартрские ваятели долго наблюдали черты и облик своих современниц, осанку и походку этих простых и прекрасных созданий, в чьих непринужденных, простых движениях столько природного стиля! Они скромно проходят, показывая лишь малую толику своей красоты, ибо ритуалы требуют тайны, и все же не в состоянии полностью скрыть ее от художника. Скульпторы сумели ее увидеть, они ее изучали, поняли, полюбили. Природа, которая в основах своих осталась неизменной наперекор векам, от XII до нашего, удостоверяет нам искренность этих великих наблюдателей. Они воссоздавали кроткую природу здешнего края. Воссоздавали прелесть, которую Господь щедрой рукой излил на женские лица как их времени, так и нашего. Каменные святые, что рассказывают нам о своих былых муках и надеждах, – родом из этого уголка Франции и из сегодняшнего дня.
Что принадлежит одному лишь настоящему моменту, так это, увы! – глупость реставрации. Эти фарисейские потуги омрачают мою радость, ранят мои восхищенные глаза, ищущие новых поводов для восхищения.
Эти фарисеи следуют букве, что убивает, и говорят при этом: «Вот видите, мы действуем согласно лучшим рецептам…» Действительно, безошибочные рецепты для разрушения. Они угробили несколько витражей, которые были одним из самых драгоценных сокровищ Шартра, его гордостью. Угробили пилястры, которые не видны теперь даже в разгаре лета, даже средь бела дня, потому что были изменены природа и распределение света.
Как можно не понимать, что готические мастера, моделируя по-своему свет и тень, знали, чего хотели, и знали, как этого добиться? Что они подчинялись одновременно абсолютному знанию гармонии и непреложной необходимости? – Почему современный дурной вкус не удовлетворяется теми уродствами, которые сам порождает? Зачем ему кроме этого надо оскорблять прошлое и лишать нас той доли счастья, которую нам навеки даровал Шартрский собор? Взгляните, какой дивный вход готовят нам истории, великолепно рассказанные скульпторами, и декор портала: эти сцены разворачиваются и сворачиваются словно по прихоти какого-то очень четкого и очень изящного сна. Но сюда примешивается ужасная реставрация барельефа; это лишь грубые починки. Ибо чувства круглой скульптуры, мягкой и в высшей степени стильной, – в чем и состоит сама душа этого стиля – у авторов починок нет; быть может, оно вообще утрачено…
Я по-прежнему удивлен присутствием в Шартрском соборе этих ренессансных пилястров с очаровательными симметричными украшениями, которые выписывают сверху донизу столь изысканные арабески.
Разворачивающиеся ленты, курильницы для благовоний; птицы с безмерно вытянутыми и склоненными шеями клюют листья и плоды; другие, наводящие на мысль о фениксе, глотают языки пламени из рогов изобилия. Пышная, отвесно ниспадающая листва отмечает линию, которая связывает эту хрупкую арабеску со всей композицией в целом, сверху донизу. Во всех узловых точках бандероли с надписями. По бокам символические ящерицы и птицы, которых вновь видишь повсюду со времен романского стиля. И еще по бокам ветвящийся орнамент. И сатиры высовываются из ваз, которые обнимают руками женщины, дети. И прелестные сирены, укутанные листьями до бедер. И ангелы, которые забавляются, стегая маленьких сатирят. И те два других сатира с высоко запрокинутыми лицами, которые несут канделябр на вытянутых руках… И еще один с целым сервизом на голове…
Создатели этих маленьких чудес – ученики Рабле или его соперники.
Духовная музыка, сестра-близнец этой архитектуры, окончательно проясняет мне душу и ум. Потом она смолкает, но еще долго отдается во мне, помогая проникнуть в глубокую жизнь всей этой красоты – беспрестанно обновляющейся, преображающейся в зависимости от точки, откуда ею любуются: передвиньтесь на метр или два, и все изменится; однако общий порядок сохранится, подобно единству в многообразии прекрасного дня. – В грегорианских антифонах та же единая и многообразная величавость; они модулируют тишину, как готическое искусство моделирует тень.
Какая грандиозная и кроткая щедрость!
Никогда я столь явственно не ощущал величие человеческого гения. Я чувствую, как сам вырастаю под наплывом восторга. Так возродился бы народ, который дал бы себе труд смотреть, попытался бы постичь. И я неустанно кричу своим соотечественникам: нет ничего прекраснее для глаза, ничего полезнее для изучения, чем наши французские соборы, и в первую очередь – этот! Почему вы ослепли, наследники провидцев, создавших шедевр?
Теперь музыка, еще недавно смутно слышимая, становится явственнее, упорядочивается. Радость множества душ, чаруемых ею из века в век, порождает этот собор, который и сам – музыка, ибо это две гармонии, которые влюбленно тянутся друг к другу, соединяются, сливаются. Жизнь вырывается из тени и возносится к коньку крыши светящимися мелодичными витками. Я различаю ангельские голоса…
Какие слова могли бы передать счастье, облекающее меня со всех сторон, это восхищенное изумление души, вдруг почувствовавшей себя окрыленной среди переливов певучей тени?
Эта световая пыль, это мерцание тени, восхититься которыми побудил нас Рембрандт, не у вас ли позаимствованы, соборы? Впрочем, он единственный сумел средствами другого искусства выразить, определить и воплотить это чудо – неиссякаемое богатство тени.