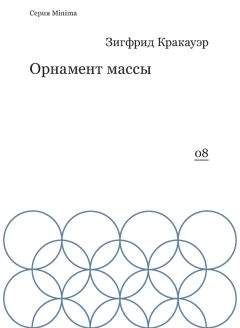Огюст Роден - Беседы об искусстве (сборник)
Эта ренессансная колонна не теряется полностью в бездне. Она истончается, поднимаясь все выше, и изящно завершается темным облаком. Чудится, будто наверху, на черных скалах, неистово бьют крыльями огненные птицы; там – схватка, и из столкновения сил рождается порядок.
Я внутри пирамиды.
Кто бы подумал, что колебание крохотного пламени свечи способно вгонять чудовище в дрожь, передвигать незыблемые архитектурные формы! Чуть дрогнет свет, и все сдвигается с места.
Короткое вступление; перезвон: голос минуты.
Эта песнь в вышине – словно предупреждение ангелам: сейчас в предрассветном полумраке пробьет всеми забытый час.
Колокол – звук кузницы, качающийся звон – заполняет все своими вибрациями.
Из моего окнаСнова глядя на собор из своего окна, я вижу каменную завесу. Изваяния – вышивки на ней. Моя комната достойна Фауста – с ее окном, с тенью, с вратами шедевра, великолепие которого прославляет эту улицу, этот город, эту страну…
Огромный барельеф по-прежнему там, в ночи; я чувствую его, хоть и не могу рассмотреть. Красота нескончаема и, торжествуя над мраком, заставляет меня восхищаться своей мощной черной гармонией: барельеф заполняет оконный проем, почти скрывая небо.
Как объяснить, что собор, даже окутанный пеленой ночи, ничего не теряет из своей красоты? Способна ли мощь этой красоты владеть нами помимо наших чувств? Видит ли око, не видя? Не обязано ли это очарование достоинствам монумента, его бессмертному присутствию, спокойному великолепию? Чудо воздействует на чувства и за пределами узкой области отдельного органа благодаря вмешательству памяти. Довольно нескольких вех, и искушенный ум испытывает на себе законную власть творения, открывается навстречу возвышенной силе, которую признает вопреки недочетам общей формы, но которую ему все-таки не удается разгадать: он ждет откровения.
Другой соборЯ иду по глубочайшей Древности…
Внизу маленький огонек очерчивает корону… и колонны кажутся колоннами самой Ночи.
Несомый ризничим огонек вонзается во тьму, словно лемех плуга в комья земли. Вонзается, и тень вздрагивает слева и справа; он проходит сквозь нее, и глыбы мрака смыкаются за бороздой слабого света.
В вышине – сталактиты обваливающихся теней! Сталактиты теней, падающих в теневой разлив, все растущий по контрасту со светом. Кажется, будто идешь сквозь ночной лес, под зимними деревьями. Отсветы накапливаются в межколонном пространстве, выписывают кривые, пересекаются меж собой; и, однако, остаешься затерянным в темноте. Повторяю, если бы не сохранилось чувства упорядоченности перспектив, едва намеченных блуждающим огоньком, страх был бы неодолим.
Верх собора отмечен какими-то серыми длинными полосами. Внизу сочится слабый свет. И сколько бы я ни старался, я ничего не вижу, наталкиваюсь на непроходимую высокую стену, где не различить никакой подробности; тем не менее меня не оставляет ощущение рельефа. Утро-разоблачитель – когда чудовище очнется ото сна – скажет нам, какие завесы, какие тройные завесы скрывали от нас зрелище, великолепие которого я предчувствую. Сейчас же я не меньше обязан своему воображению, нежели глазам. Предо мной – непроницаемый экран.
Движущийся огонек наводит на мысль о преступлении – вот так же потайной фонарь мог бы сопровождать шаги какого-нибудь злодея…
Торжество человеческого гения, сотворившего эти аркады. Что ему навеяло их? Радуга, быть может!
ТрансептМне кажется, я вижу Шамборскую лестницу, ставшую шире в пропорциях. Ее витки разворачиваются в вышине. Обрисовываются пролеты, их основания тонут в тени перекрестья трансепта.
Эти большие розы, витражи, настоящие солнца днем, ночью чернее, чем остальные части здания.
Капеллы – ячейки сот.
Тень сплющивает пилястры. Тут и там менее черные полосы. Различаются какие-то смутные, громоздящиеся уступами формы. Неясный свет маскирует их по-разному, особенно когда я смотрю в три четверти. Остается богатство серого, черного.
Ощущение чистоты и легкости дает призматическая форма, прорезающая массы своей острой гранью.
Снаружи собора, деньЧерез открытые врата витражи над белыми, устремленными к своду колоннами кажутся яркими персидскими миниатюрами. А группа колонн под аркадами словно отчеканена дальними витражами.
Из своей комнаты, залитой тенью, которую отбрасывает на нее собор, со своей постели я вижу широкий барельеф – это часть фасада. И комната вместе с моей мыслью целиком погружается в это влекущее к себе творение. Я думаю о тысячах людей, которые работали над этим.
Очень немногие из живущих ныне хранят благоговение в этой пустыне божественных, когда-то почитаемых камней. Меня сближает с ними любовь, которая защищает нас от смерти, и я чувствую себя стрелкой, что все еще отмечает час жизни и славы на циферблате поруганных веков.
Какое дружеское дуновение освежает мой лоб! Это ветер, только что коснувшийся собора… Только ветер да я остались ему верны…
Устав, я уже собираюсь обратно, к себе в комнату, но медлю, расхаживая взад-вперед; солнечные лучи удлинились до бесконечности, и вдруг – собор явил себя! Чудо из чудес поджидало меня, чтобы наполнить мне сердце, и душу, и мозг своим великолепием, поразить своей божественной молнией, дивной грозой. Я один пред исполином… Миг угасания, и вдруг все так поразительно ожило! Божественный апофеоз! Священный ужас! Случилось нежданное, и это нежданное обнаружил свет.
Вещи предстают предо мной более возвышенными, очищенными. Благодаря этому сиянию они вышли из небытия. Свет выявил первые планы, прерывисто набрал больше силы, следуя по восходящим линиям, окутал порталы дымкой, укрыл их в тени: и дальше весь собор вознесся к небу своей дерзкой громадой.
Снаружи собора, ночьюБессменные теневые стражи у врат, великие свидетели, почетный караул в три ряда, по четыре, по шесть, по десять в ряду, святые: словно воскресшие, восставшие из своих гробниц.
Я чувствую, как вокруг всех этих причудливых изваяний трепещет некая – нездешняя – душа. Какую ужасную загадку они мне предлагают! У них такой вид, будто они свидетельствуют о чем-то. Они живут жизнью веков. Не призраки ли это? В них потрясающая сила веры. Быть может, они ждут какого-то важного события; совещаются о чем-то. Они уже не принадлежат времени, в котором жил ваятель, их вид беспрестанно меняется, и они приобретают в моих глазах какие-то до странности новые, чужеродные черты: на ум приходит Индостан, Камбоджа…
9
Лан
Я предварил эту славную поездку посещением Лувра.
Еще раз удостоверился со всей очевидностью, насколько для греков вместе с формой был важен цвет. Впрочем, несомненно, что хорошо сделанная форма дает цвет и vice versa.
Так, античная пальметта, которую я вижу рядом с этими чашами и викторией, сделана по тому же принципу, что и они. Великие ваятели, не довольствуясь мощным самовыражением через планы, прислушивались к совету своего непогрешимого вкуса, который советовал им, где надо, привлечь внимание темным пятном, черной тенью, сильным штрихом.
Но какая сдержанность в этой силе!
В наше время расточают столько эффектов, что больше не остается того, что гармонично определял бы целое. Все это лишь пустое неистовство. Оно изобличает слабость.
Греческая же добродетель – мера, означающая сознательную силу, – утрачена.
Однако это была также в высшей степени французская добродетель, в прекрасные романские времена, в готические, ренессансные и последующие, вплоть до царствования Людовика XVI.
Глубокое восхищение перед порталом. Чувствую себя осененным славой.
Три ланские башни, видимые с расстояния, – словно знамена, далеко разносящие праведную гордость за человека.
Какой восхитительный набросок сразу же при входе в церковь! Первопричастницы в своих белых платьицах и покрывалах вступают под своды… Сколько достойного восхищения одновременно! Разнообразная красота всех этих юных девочек и величественная архитектура церкви…
Церемония уже начинается. Мой взгляд блуждает по малым приделам, но рассеянно, из-за размеренной, грациозной, гармоничной суеты священнослужителей в богатых ризах и этой белой стайки маленьких прихожанок.
Французская душа, я вновь нахожу тебя! Здесь то же верное чувство меры в его вольном, живом движении, что я видел в Лувре у неподвижных древностей.
Какого преклонения достойны эти женщины! Какое естественное украшение для этого леса камней! Как все в них – типы, позы, одежды – подходит стилю здания, непринужденно сливается с этой средой!
Да, греки были правы, говоря, что красота – добродетель; эта спокойная, далекая от всякого неистовства, серьезная, сдержанная красота, которую они любили и завещали нам, ту красоту, что скрывает свою силу под изящным покровом грации.