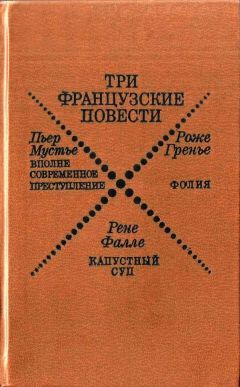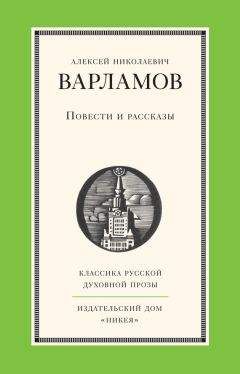Пьер Мустье - Три французские повести
— Отчасти. Когда я сказал, что хочу с вами расплатиться, я не имел в виду деньги. Я хотел доставить вам удовольствие. Скажите, Глод, если бы вы увидели Франсину, это доставило бы вам удовольствие?
От неожиданности Ратинье даже и думать забыл о своем луидоре. Он печально покачал головой, и впрямь раздосадованный этим предложением.
— Такими вещами, Диковина, шутить грешно. У нас мертвых чтут, пусть даже в ваших краях вы их в навоз бросаете.
Диковина искренне огорчился тем, что так расстроил своего землянина.
— Простите меня, Глод. Но это всерьез. Если вы захотите меня выслушать, вы увидите вашу Франсину живой.
— Живой, после того как она десять лет в земле пролежала? Ну и чудак! Или ты козу мне хочешь подсунуть?
Лицо Диковины независимо от его воли приняло высокомерное выражение, что обозлило Глода, решившего про себя, что его гость «пижона из себя строит».
— Нет, Глод, я вовсе не шучу. Отнюдь нет. Вы сами не умеете воссоздавать материю, но это еще не резон, чтобы считать нас летающими неучами. Мы давно-давно умеем воссоздавать материю.
Глод тупо пробормотал:
— А разве и Франсина тоже материя?..
— Конечно.
— Так ты можешь мне ее воскресить?
— Безусловно.
— Тогда почему же вы сами себя не воскрешаете? Если вы даже в двести лет помираете, значит, ничего вы не можете поделать, как мы…
— Нет, мы могли бы. Но наше исчезновение предусмотрено и принято законом. У вас такого закона нет.
— У нас один закон — божья воля! — с неожиданным пафосом воскликнул Глод, хоть и несколько отупевший и растерявшийся от всех этих ученых разговоров, подымавшихся во все более высокие сферы.
Обозлившись, Диковина забылся до того, что даже хлопнул по столу своей трубочкой, которой усыпил Бомбастого.
— Не знаю никакого бога! Не ломайте дурака, мсье Ратинье. Попрошу без древних суеверий. Хотите вы или нет вновь увидеть вашу жену в своем доме?
Нет, он, оксонианин, не шутил. Надо было слышать, каким подчеркнуто жестким тоном он произнес «мсье Ратинье». Желая поразмыслить минуту-другую и оттянуть время, Глод проглотил чуток вина, просто чтобы прополоснуть себе миндалины. Что и говорить, соблазнительно снова увидеть Франсину, которая была и хорошей женой, и хорошей матерью. Но что подумают в Гурдифло об этой чертовой чертовне? Что скажет ошеломленный Сизисс, столкнувшись нос к носу с покойницей, восставшей из праха? И в их округе, да и в самом департаменте перепутаются все представления о смерти. Вот-то пойдут сплетни, разрази меня гром, даже до Лурда слух дойдет!
Глод поделился своими сомнениями с Диковиной, который счел их вполне обоснованными. Даже новичок в земных обычаях не может совершенно не считаться с силой общественного мнения, каковое является базой и, так сказать, солью всех досье и проспектов касательно нашей планеты.
Тут Диковина встал со стула, подошел к Глоду и шепнул ему что-то на ухо, да так тихо, что даже пауки, раскинувшие свою паутину под потолком, и те ничего не услышали. Лицо Глода прояснилось.
— Это славно… раз так… что же, совсем не глупо… что ж, я не против… там посмотрим… стоило бы попробовать… Подожди-ка, я тебе кое-что дам!
И все из той же картонной коробки, откуда он извлек свой луидор, Ратинье вынул маленький полотняный мешочек, развязал веревку и показал Диковине прядь седых волос.
— Я срезал их у Франсины, когда ее в домовину клали, — пробормотал Глод, все еще не пришедший в себя от произнесенных шепотом слов гостя.
Диковина спрятал мешочек, и по лицу его пробежал проблеск улыбки, словно прорезанной поперечной пилой.
— Будьте любезны супу, Глод…
Ратинье налил супу в бидон, и житель планеты Оксо прижал его к груди, будто святую дароносицу. Тут Глод, не выдержав, зевнул; вопреки деревенским сплетням, он не имел привычки хлестать вино ночами.
— Ты меня, сынок, совсем с толку сбил своими историями, особенно в том, что касается «имени божьего». «Имя божье», запомни хорошенько, и на лбу начертано, от него и крестное знамение. Я тебя не провожаю, и без меня дорогу знаешь. Хлева не запирай, я сам запру. А скоро мы снова увидимся, старина?
— Скоро, старина Глод.
Диковина уже вышел прочь, но Ратинье поспешно распахнул дверь.
— Эй, Диковина!
— Да? — раздался в ночи голос счастливого обладателя сокровища, именуемого капустным супом.
— Слушай, Диковина, главное — не забудь вернуть мне мой луидор! У нас это называется долги отдавать.
Глава восьмая
Кот Добрыш старился, он уже стоял тремя лапами в могиле. И причиной тому была распутная жизнь. В любую погоду, даже тогда, когда добрый хозяин со двора собаку не выгонит, он один шатался по дорогам. А так как был он черный без единой отметинки, считалось, что он приносит несчастье. Впрочем, это было отчасти и справедливо. Так, например, он принес несчастье автомобилистам, которые ночью гнались за ним, чтобы раздавить, так просто, смеха ради. Но проклятый Добрыш сумел в последнюю минуту избежать нелепой кончины, нырнув в кювет, а машина со всего размаха врезалась в дерево. Таким образом на совести Добрыша оказалось четыре человеческих жизни, но это никак не отражалось на его самочувствии до последних дней. Но сейчас старичина — как называл его хозяин — справедливо расплачивался за излишний охотничий пыл и за беспутное поведение.
Нынче ночью его здорово отделал молодой двухлетний кот, который желал воспользоваться благосклонностью кошечки с фермы Мутон-Брюле и не собирался делить своих утех с каким-то ветераном, на целых одиннадцать лет старше его. А ведь еще год назад он мог бы загнать этого молокососа на самую вершину орешины.
Да сверх того, сегодня утром он раз за разом упустил двух мышей, что больно ущемило его гордость. Правда и то, что мыши с некоторого времени, как ему казалось, бегали все быстрее и быстрее, и Добрыш начал уже подумывать, не стал ли и он тоже жертвой прогресса.
Развалившись на траве, он грустно покусывал какую-то былинку, не чувствуя, впрочем, ее вкуса. В дом он входить не решался, с тех пор как там стало разить серой и припахивало костром. А старик Глод хоть бы чихнул разок. Если быть уж совсем откровенным, плевать Добрыш хотел на кошечку из Мулен-Брюле. Не лежало больше его сердце к любовным проказам и лазанию по крышам. Да и кошки тоже изменились к худшему, уже не исходил от них теперь, как прежде, пьянящий запах. Скорее по привычке, чем ради галантных забав, забредал он в Мулен-Брюле.
Он зевнул. Котенком он играл с солнечным лучом. А сейчас солнце играло на его полуоблезлой шерсти, жесткой, как матрасный волос, и Добрыш подставлял свои бока под яркие лучи для того только, чтобы излечиться от ревматизма. Мимо проползла улитка, но Добрышу даже в голову не пришло забавы ради перевернуть ее ударом лапы. Он скучал, ему прискучили неприятности. Он почесывался, впрочем без надежды на успех, ибо знал, что блохи так же неизбежны, как любовные огорчения, это своего рода денежные издержки котов.
Он вяло поднялся с травы и вдруг, без всякой видимой причины, начал мяукать как оглашенный, словно взывая к миру, который уходил от него, как полевые мыши. Не прекращая сиплого воя, он направился к сараям, сделав крюк, чтобы не встретиться с маленьким петушком, драчуном и задирой, увидел открытую дверь и решил лучше уж заглянуть к Бомбастому, потому что дома ему стало совсем невмоготу.
После неудачной попытки самоубийства Бомбастый почти не вставал с постели. Мазь, которой он пользовал своего осла, не исцелила его контузий, как ни рассчитывал он на ее волшебные свойства. Не помогли даже две отбивные котлеты, хотя Глод накрепко привязал их к больным местам. Шерасс обрадовался появлению Добрыша.
— Чего это ты так вопишь, бедолага? Я тоже воплю от боли, я ведь и спать не могу, только одну ночь и спал, а три без сна валялся, совсем как тогда, когда я случайно своротил себе челюсть. Тут все само собой понятно. Глода ищешь? Он в Жалиньи. За мазью поехал для моих синяков. У тебя, Добрыш, добрый хозяин. На его месте я бы давным-давно тебя дубиной промеж ушей хватил!
Порадовало его, что кот, вспрыгнув на стол, доел остатки лапши. И уж совсем был в восторге, когда Добрыш залез к нему на кровать и улегся рядышком. Сизисс погладил его. Под кожей у кота перекатывались дробинки, память о выстреле, настигшем в свое время Добрыша. Теперь это не повторится. Добрыш все реже и реже уходил с хутора, а скоро и вообще никуда уходить ему уже не придется.
— Бедная моя животина, — растроганно прошептал Бомбастый, — бедный ты мой дурачок, и говорить-то ты никогда не умел, а думаешь, я лучше тебя умею? Впрочем, если бы и умел, что бы ты сказал? Сейчас и говорить-то больше не о чем.
С превеликой осторожностью, чтобы не потревожить кота, он достал с ночного столика стакан вина, выпил его разом и тоже замурлыкал. В солнечном луче плясали мухи. Висевшие в углу часы ткали полотнище времени, шевеля своими стрелками. Потом они прокашляли несколько раз что-то невразумительное. А два старика — человек и кот — в конце концов уснули бок о бок.