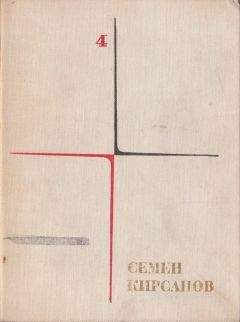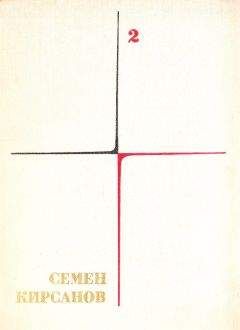Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
Весеннее
Высотными тучами сотканы
дожди для озер полноводных;
апрельскими метеосводками
насыщены радиоволны.
Я тоже приемник! Настраивай
меня на такую капеллу,
добейся настройки, настаивай,
чтоб таяло все и кипело!
И хлынуло бурное таянье
к очнувшейся флоре и фауне.
И жерди расчищенных кровелек
дрожат от антенновых проволок.
И льдинки, забытые в марте,
готовы к ручьистой возне,
и снова из всех хрестоматий
вылазят стихи о весне.
Мильонами капельных гвоздиков
к земле прибиваются лужи,
а массы полярного воздуха
отходят с потерями в стуже.
И место готово жужжаньем —
лиловокрылатым южанам.
И вот я вошел и включился
в горячие майские числа,
в весенний концерт шелестений
смычками взмахнувших растений.
Подумайте, тучи, где хлынуть,
ищите засушливый климат,
спешите к озимому клину,
и там вас восторженно примут!
Ни признака шуб и поддевок,
в сундук надоевшую серость!
Вот птицы с листками путевок
на влажных карнизах расселись.
Закрытые на зиму плотно,
раскрылись промытые окна,
и пчелы работают в сотах
в три смены на низких частотах.
Дума о Гуцульщине
Как на самых на Карпатах
есть Гуцульщина-земля.
Гей, Гуцульщина-земля,
ты Полтавщине родня!
Не берет кремень лопата,
ты осталась на Карпатах
с украинским говором,
горная,
гордая!
Не скрутили той страны
сановитые паны
с бельведерским гонором.
В небе холод синеватый,
кряж карпатский становой.
Да и хаты
с синевой,
так белы — не выпачкай!
Хлопец в шапке синеперой,
в белой куртке с выпушкой,
ходит, гонит стадо в горы,
пояс резан серебром,
ломоть хлеба вложен в сумку,
да наигрывает шумку
он на дудке с пузырем.
Да и козы беловорсы
ходят за подпасками,
и до сердца дышат горцы
высями карпатскими.
У гуцулок руки ловки, —
ой, какие вышивки!
Только сами нищенки…
Верно служат им иголки,
мелкой стежкой колют холст.
А рисунок-то не прост!
Целый луг в узор врисуют,
там — закат, а тут — рассвет.
Синий цвет гопак танцует,
в паре с ним зеленый цвет.
Приезжали торгаши,
забирали за гроши,
и — один другого краше —
рушники на руки!
Говорили: — То есть наши
малопольски штуки.
У гуцулов руки резвы,
гой, какие резьбы!
Ляльки, люльки, ложки, блюда,
что ни вещь, то чудо!
Всё паны берут за грош:
— Прошу пана, хлопский нож! —
Маршалковска улица
мастерством любуется.
— Осемь десьонт чтери злота —
малопольская работа! —
А гуцул-мастеровой
знает голод даровой.
Перед паном-экономом
били хлопца макагоном,
ой, там, ой, там на току
сбили хлопца на муку!..
Как на нашу Гуцульщизну
власть советская пришла!
Власть советская пришла
с новым светом, с новой жизнью!
Наша песня — у Карпат!
Горы древние не спят,
и к броне стальных машин
белый снег слетел с вершин.
Да встречает теплым звоном
нас гуцульская страна,
нет, не завоевана,
нами зачарована:
Красной Армией Червонной
зачарована она.
А пришла Радянська Влада
не суровым стариком,
а пришла Радянська Влада
молодым политруком
со звездою нарукавной.
Ладный, складный политрук —
украинец из Полтавы.
Обступили его вкруг,
приглашают в хату, в гости,
да несут орехов горсти,
яблоки да молоко,
по-гуцульски — широко!
Показал хозяин блюдо:
— Ось гуцульская резьба. —
Политрук сказал: — Не худо!
Тонко резано. Весьма.
Хорошо, кто понимает.
Дай-ка я попробую!.. —
Острый ножик вынимает,
досточку особую,
щурится,
хмурится…
Смотрят хлопцы и дивчата
на его резьбы початок.
Нож не режет, а летает,
и не движется рука,
только кончик выплетает
сразу тридцать три цветка!
Не свести с узора глаза.
Шепот, тихий разговор.
Да как ахнут люди сразу:
— То ж гуцульский, наш узор!
Наши квитки с завитками,
навить нашими руками
скризь оно
ризано! —
И пошел по хате гул:
— Нет нигде такой оправы! —
Гуркотят: — Да он гуцул! —
Отвечает: — Я с Полтавы! —
Гимнастерку расстегнул,
отгибает деловито
красный ворот, а под ним
во всю грудь рубаха шита
лугом сине-голубым.
Смотрят жинки на нее:
— То ж гуцульское шитье! —
Отвечает политрук: —
То работа наших рук!
По рубашке из сатина
на советской стороне
это вышила дивчина
из Черниговщины мне.
По-гуцульски и полтавски —
разговор один!
Сколько жили врозь годин,
но слова одной раскраски!
Сколько нас делило гор,
но в резьбе один узор!
Сколько жили под панами,
но в шитье один орнамент!
Ах, Гуцулщина-земля,
ты Полтавщине родня,
ты хозяишь на Карпатах
с красным знаменем на хатах,
горный кряж червонных рад!
С вольной жизнью, украинцы!
Львов и Киев — брату брат,
между нами нет границы
от Полтавы до Карпат!
Памятник Ленину
Над высотой Страны Советов,
где облаками воздух вспенен,
протянет руку в даль рассвета,
лучу зари, товарищ Ленин.
Из Одинцова путник выйдет —
Москва за лесом, за рекою…
Но путник Ленина увидит
с простертою к нему рукою.
С дороги сбившись, летчик ищет
маяк Москвы в туманной каше,
и Ленин дружеской ручищей
аэродром ему покажет.
Гроза решит раскатом грома:
«Паду на дом, огонь раздую!» —
но Ленин отведет от дома
огонь и бомбу грозовую.
Его рука весь мир обводит —
вершины, низменности, воды…
И, может, вспомнит о свободе,
краснея, статуя Свободы.
С вершины нового Монблана
поэт увидит с удивленьем
мир, перестроенный по планам,
что людям дал товарищ Ленин.
И вы, с планетою в полете,
глазами обернувшись к другу,
всем человечеством пожмете
живую ленинскую руку!
Стратостат «СССР»
В воздухе шарь, шар!
Шар созрел, кожурою обтянутый тонко,
и сентябрьским румянцем звезды налился,
и сорвался, как яблоко, как ньютоновка,
не на землю, а с ветки земли в небеса!
Отступал от гондолы закон тяготения,
не кабину, а нас на земле затрясло.
Вся Москва и Воздушная академия
отступала, мелькала, а небо росло.
Им казалось, что зелень — это трава еще,
это сделался травкой Сокольничий парк.
Это был не Пикар — это наши товарищи
по совместной учебе, по тысячам парт.
Мы все с замирающим сердцем
фуражки задрали наверх
и тянемся к стратосферцам,
к втянувшей их синеве.
В том небе никто еще не был,
еще ни один аппарат,
и вот в девятнадцатом небе
советские люди парят.
И в это синейшее утро
ко мне на ворот плаща
упала дробинка оттуда,
как первая капля дождя.
Взлет стратостата и бег шаропоезда[2],
финиш машин, перешедших черту, —
все это нами ведется и строится
в век, набирающий быстроту.
Нам не до стылого,
нам не до старого.
Шар растопыривай!
Небо распарывай!
Юность сквозная,
жизнь раззадоривай, —
черт его знает,
как это здорово!
Как я завидую взвившейся радости!
Я как прибор пригодился бы тут,
взяли б меня как радостеградусник.
Чем я не спирт? Чем я не ртуть?
Эту глубокую, темную ширь
я б, как фиалку, для вас засушил.
Где ж это виделось?
Где хороводилось?
Нам это выдалась
быстрая молодость!
Молодость вылета
в шумное поле то,
в семьдесят градусов
верхнего холода!
Чтобы повсюду росли и сияли
нашей эпохи инициалы,
будет написано сверху небес
здесь и на блеске заоблачных сфер —
смелости
С
свежести
С
скорости
С
и радости Р.
Легенда о музейной ценности