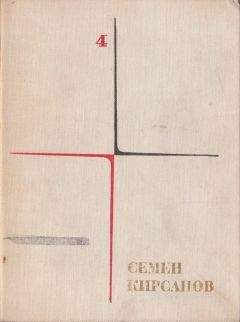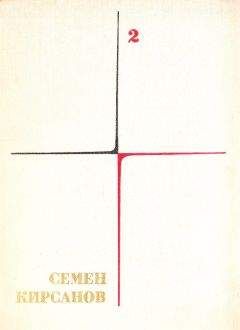Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
Елочный стих
Оделась в блеск, шары зажгла:
«К вам в Новый год зайду-ка я!..»
И в наши комнаты зашла
подруга хвойнорукая.
Стоят дома при свете дня,
на крышах дым топорщится,
но если крыши приподнять —
весь город просто рощица!
А в этой рощице — ребят!
С игрушками! С подарками!
Нам новогодие трубят,
маша флажками яркими.
И я иду смотреть на Кремль,
мотель, и брови в инее;
там башня Спасская, как ель,
горит звездой рубиновой.
Весь город в елках зашуршал
в звон новогодней полночи, —
фонарь качается, как шар,
и уличный и елочный.
Бывало, в ночь под Рождество
прочтешь в любом журнальчике
рассказ про елку, барский стол
и о замерзшем мальчике.
Теперь таких журналов нет,—
мороз хватает за уши,
но мальчиков по всей стране
не видно замерзающих.
Для них дрова трещат в печах,
котлы и трубы греются;
их жизнь с оружьем на плечах
средь елей, в пасмурных ночах,
хранят красноармейцы.
И я стихами блеск зажег, —
входите, ель-красавица,
на ветку этот стих-флажок
подвесьте, если нравится!
Граница в будущем
Когда бой пошлет рабочим новую победу
и подымет флаг страны соседней ЦИК,
я еще раз, может быть, поеду:
Негорелое — Столбцы.
Пассажиры сходят с быстропоезда
перед бывшей пограничною сосной,
дети слазят, мамы беспокоятся,
отдыхает кит сверхскоростной.
Под навесом старый столб хранится,
рядом надпись, мраморно-бела.
Мы читаем: «Здесь была граница».
И действительно она была.
Дети спросят: — Кто она такая! —
Объясняю, гладя их рукой:
— Паспорт проверяли, пропуская…
— Дяденька, а паспорт кто такой? —
Педагог я очень маломощный:
— Ну, таможня, чемодан неся…
— А таможня — это там, где можно?
— Нет, ребятки, там, где все нельзя. —
Непонятно детям — просто столбик,
а куда приятней у окошка, мчась,
видеть, как прекрасен мира облик
с вихрем в триста километров в час.
И не будет ни одной гранички!
Ни жандармов, ни таможни, ни столба.
Впишут школьники в тетрадные странички
эти отмененные слова.
Можно размечтаться упоенно,
а пока железное «нельзя!».
Через наш рубеж шпана шпионов
крадется, на брюхе к нам ползя.
А пока спокойно паспорт сверьте,
чемодан, — двойного нет ли дна?
Самая священная на свете,
будь, граница, вся защищена!
Испания
Я не очень-то рвусь в заграничный вояж
и не очень охоч на разъезд.
Велика и обильна страна моя,
и порядок в ней должный есть.
Но посмотришь на глобус —
для школьников шар,
стран штриховка и моря окраска, —
сразу тысячью рейсов махнет по ушам
кругосветная качка и тряска.
И чего прибедняться! Хочу увидать
то, чего мое зренье не видело:
где коралловым рифом пухнет вода,
Никарагуа, Монтевидео…
Я мечтал, не скрываю, право мое —
жадным ухом прислушаться к говору,
стобульварный Париж, стоэтажный Нью-Йорк,
все вобрать это полностью в голову!
Но сегодня, газету глазами скребя,
я забыл другие искания,
все мечты о тебе, все слова для тебя —
Испания!
Вот махнуть бы сейчас через все этажи!
(Там — окопы повстанцами роются…)
И октябрьское знамя на сердце зашить
астурийцам от метростроевцев.
Ты на карте показана желтым штрихом
в субтропическом теплом покое,
а взаправду твой зной проштрихован штыком,
я сейчас тебя вижу такою!
Не мерещатся мне улыбки Кармен
и гостиничное кофе.
Мне б хоть ночь пролежать, зажав карабин,
с астурийским шахтером в окопе.
Кстати, норму я сдал в позапрошлом году,
ворошиловцы — надобны вам они,
даже цветом волос за испанца сойду, —
породнимся на красном знамени!
Ноги
В Париже по Rue St-Honore,
и в синие сумерки проходил,
где спит на пляжах витрин-морей
вещь-змея и вещь-крокодил.
В стекле — фарфоровый свет грудей,
фаянсовых рук, неживых людей,
розовой резины тягучая мазь
на женщинах из пластических масс.
Я подошел к одной из витрин.
В вывеску вписывались огни,
стекло зеркальное, а внутри
ящик и две золотых ноги.
Чулка тончайшего чудо-вязь
и ноги без туловища, одни,—
не воск, не дерево, не фаянс.
Живые — вздрагивали они!
Звездам пора уже замерцать,
созвездья вползают на этажи;
женщина в ящике ждет конца
и несколько франков за эту жизнь.
Вздрогнули мускулы под чулком,
и дрожь эту каждый увидеть мог…
Родиться не стоило целиком,
чтоб жить рекламного парой ног.
Но нечего делать, торговый Париж
спускает шторы, вдвигает болты;
Париж подсчитывает барыш
за женские ноги, глаза и рты.
Поднят на крышу кометный хвост,
гаснут слова и дрожат опять,
кто спать в постель, кто спать под мост,
а кто еще одну ночь не спать…
Я эту витрину ношу в мозгу,
той дрожи нельзя замять и забыть;
я, как спасение, помню Москву,
где этого нет и не может быть.
Кладбище Пер-Лашез
Вот Пер-Лашез, мертвый Париж,
столица плит, гранитных дощечек,
проспекты часовен, арок и ниш,
Париж усопших, Париж отошедших.
Мать припала к ребенку, застыв,
физик — с гранитной ретортой.
Сырые фарфоровые цветы
над надписью истертой.
С каменной скрипкой стоит скрипач
у камня-рояля на кладбище.
Надгробья готовы грянуться в плач
Шопеном траурных клавишей.
Писатель, с книгой окаменев,
присел на гранит-скамью.
И вот стена, и надпись на ней:
«Aux morts de la Commune».
Я кепку снял, и, ножа острей,
боль глаза искромсала, —
Красная Пресня, Ленский расстрел,
смерть в песках комиссаров,
Либкнехт и Роза и двадцать шесть,
Чапаев и мертвые Вены
всплывали на камне стены Пер-Лашез,
несмыты, неприкосновенны.
Кладбищенский день исчерна синел,
и плыли ко мне в столетье
венки из бессмертников на стене,
«Jeunesse Communiste» на ленте…
Станция «Маяковская»
На новом радиусе
у рельс метро
я снова радуюсь:
здесь так светло!
Я будто еду
путем сквозным
в стихи к поэту,
на встречу с ним!
Летит живей еще
туннелем вдаль
слов нержавеющих
литая сталь!
Слова не замерли
его руки,—
прожилки мрамора —
черновики!
Тут в сводах каменных
лучами в тьму
подземный памятник
стоит — ему!
Не склеп, не статуя,
не истукан,
а слава статная
его стихам!
Туннель прорезывая,
увидим мы:
его поэзия
живет с людьми.
Согретый множеством
горячих щек,
он не износится
и в долгий срок.
Он не исплеснится!
Смотрите — там
по строчкам-лестницам
он сходит сам.
Идет, задумавшись,
в подземный дом —
в ладонях юноши
любимый том!
Пусть рельсы тянутся
на сотни лет!
Товарищ станция,
зеленый свет!
Землей московскою
на все пути,
стих Маяковского,
свети, свети!
Станция «Земная ось»
На станцию «Земная ось»
поедем, не сегодня — днями!
Она стоит немного вкось,
воображаемая нами.
Она в уме, и, как залог,
она мне раз в неделю снится;
о ней завязан узелок
и в книжке загнута страница.
Я узел развяжу платка,
спокойно к полюсу спланирую,
на ледяную гладь катка,
и вам оттуда промолнирую:
«Благополучно прилетел,
читайте „Комсомольской правде“.
Хорош погоды бюллетень.
Спешу. Целую. Телеграфьте.
Встречайте. Прилетим в восьмом.
Легко пробили туч осаду.
Люблю. Подробности письмом.
Везу моржонка зоосаду».
Там, чтобы ось была взаправдашной,
мы сами в землю вбили ось,
и знамя над землею радужной
на вечном стержне поднялось.
Мы видим с птицы широченной
все краски северной красы,
и днем и ночью шар ученый
все ходит вкруг своей оси.
Отсюда будет очень близко
лететь к Москве и к Сан-Франциско.
И, может быть, поэт Тычина,
в кабине светлой сидя чинно,
посмотрит вкось и скажет: «Ось,
яка вона, земная ось!»
Она в уме, и, как залог,
она мне раз в неделю снится;
о ней завязан узелок
и в книжке загнута страница.
Весеннее