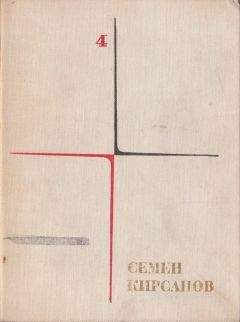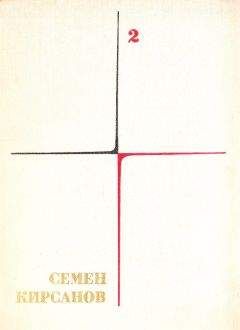Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
Неподвижные граждане
Кто не видал чугунных граждан города.
Степенный вид, неяркие чины:
Пожарский, Минин, Пушкин, Гоголь, Федоров
в большую жизнь Москвы вовлечены.
Триумфы, может, памятникам снятся,
но в общем смирный, неплохой народ;
попросим — слезут, скажем — потеснятся,
не споря, у каких стоять ворот.
В других столицах памятники злее,
куда нахальнее, куда грозней!
Мосты обсели, заняли аллеи,
пегасов дразнят, скачут, давят змей.
Наш памятник — народ дисциплинированный,
он понимает, что кипит страна,
что вся Москва насквозь перепланирована,
что их, чугунных, дело — сторона.
Вы с Мининым — Пожарским, верно, виделись?
На постаменте твердый знак и ять.
Что ж, отошли себе и не обиделись, —
чем плохо у Блаженного стоять?
Бывает так, что и живой мужчина
на мостовой чугунный примет вид.
«Эй, отойди!» — ему гудит машина,
а он себе, как памятник, стоит.
А монумент не лезет в гущу улицы.
Островский влез на креслице свое,
сидит, в сторонке сторожем сутулится,
хотя репертуарчик «не тоё».
Другая жизнь у памятника бодрого,
в деснице свиток, богатырский рост;
покинул пост первопечатник Федоров
и занял более высокий пост.
Он даже свежим выглядеть старается,
метро под боком, площадь — красота,
а в мае — песни, пляски, демонстрации…
Нет, не ошибся, что взошел сюда!
Ведь все-таки профессия из родственных —
свинцом дышал и нюхал плавки гарь,
и скажем прямо: старый производственник,
а не какой-нибудь кровавый царь.
Что до царей — прописана им ижица.
Цари мне нравятся, когда они резвей,
когда они, цари, вниз головою движутся,
куда им полагается — в музей.
Чувство нового
Чувство нового, завоеванное,
чувство самого в мире нового,
незаношенного, ненадеванного,
неоткрытого, неготового!
Словно после потопа Ноева,
в мире вымытом уйма нового,
ненаписанного, неизваянного,
неиспытанного, без названия.
Нами, нами оно основано
без корыстного, злого норова,
не нависшее ненавистною
пылью Плюшкина, сном Обломова.
Чувство времени быстроногого,
землю вырвавшее из апатии,
светом будущего взволнованное,
явью ставшее в планах партии —
драгоценное чувство нового!..
В первый раз раскрытая азбука,
в первый раз открытая Арктика,
над невиданным сортом яблока
терпеливой студентки практика.
В первый раз включенное радио,
след протона, впервые найденный,
метростроевцев первый радиус,
зимостойкие виноградины.
Цели жизни — для всех открытие!
Всей страны в коммунизм отплытие!
Наша мысль стариной не скована,
время мелется нашим жерновом!
Пусть над пропастью, пусть рискованно, —
мы проходчики мира нового!
Пусть не смеют нас консерваторы
ранить взглядами косоватыми!
Опыт прежнего — в новость выдумки!
Время свежее — нашей выделки!
Плод Мичурина, скальпель Павлова,
поле Демченко, труд Стаханова,
танк Урала, метро московское,
стих шагающий Маяковского,
вокругсветная дума Чкалова,
перелет через полюс Громова…
В жизни времени небывалого
новым людям нельзя без нового!
Хорошо, что не все придумано,
лишь очерчено углем грубым.
Недоделано? Недорублено?
Недолюблено? Снова любим!
И не все перемыто золото,
глубь не пройдена стратосферная.
Будем делать тепло из холода,
день из ночи и юг из севера.
Наши руки всему научатся,
все загадки по нитке вытянем,
коммунизм у нас получится
многоцветный и удивительный!
Знаем — скажут потомки в будущем:
«Эти жили совсем не буднично!»
Глянут в книжицы позабытые —
нас увидят и позавидуют!
Горсть земли
Наши части отошли
к лесу после боя;
дорогую горсть земли
я унес с собою.
Мина грохнулась, завыв,
чернозем вскопала;
горсть земли — в огонь и взрыв —
около упала.
Я залег за новый вал,
за стволы лесные,
горсть земли поцеловал
в очи земляные.
Положил в платок ее
холщевой, опрятный,
горстке слово дал свое,
что вернусь обратно;
что любую боль стерплю,
что обиду смою,
что ее опять слеплю
с остальной землею.
Дети
Зияет руинами школа,
семь классов в разрезе стены, —
фугаска ее расколола
стальным кулаком сатаны.
Но школьники без опозданья
приходят в разбитое зданье.
Космическим черным железом
забрызган их опытный сад,
но все же тычинки в разрезе
на взорванных стенах висят.
Едва отгудела тревога,
все сели вокруг педагога.
Урок у обломков строенья,
раскрыты тетрадки для слов,
здесь дети постигнут строенье
живых и любимых цветов.
И водит указкой Светлана
по стеблю и чаше тюльпана.
Отцы их бросаются в пламя,
а им, остающимся жить,
не с бомбами, а с цветами
придется в грядущем дружить.
Над ними качается стадо
серебряных аэростатов…
Севастополь
Севастополь! Огневая буря!
Глохнет берег от ревущих бомб,
вздулась бухта, бурная и бурая,
вспышки в небе черном и рябом.
Может, страшным оползнем обрушатся
и сползут в пучину берега,
но вовеки памятником мужества
здесь воздвигся облик моряка.
Может быть, когда-нибудь растопится,
станет паром моря изумруд,
но вовеки, черноморцы, севастопольцы,
ваши подвиги в легендах не умрут.
Танки шли — вы встали и застопорили,
залегли, бессмертное творя,
будто врылись в землю Севастополя
рукавов матросских якоря.
Пулями пробитые, но держат,
держат ваши руки пулемет,
и, как шлюпка с надписью «Надежда»,
к вам любовь народная плывет.
Верю я далекому виденью:
взорванная вырастет стена,
севастопольские улицы наденут
дорогие ваши имена.
Будет день — и мы придем обратно
к памятным развалинам в Крыму!..
Лозунг: «Смерть фашистским оккупантам!» —
значит: жизнь народу моему!
Одесса
Я взглянул и задрожал: — Одесса!
Опустел и обвалился дом…
Желтый камень солнечного детства
выщерблен фашистским сапогом.
Город-воля, штормовое лето,
порт, где бочек крупное лото,
где встречался с «Теодором Нетте»
Маяковский в рейде золотом.
Сердце этим городом не сыто, —
лихорадит и томит меня
долгий взгляд матроса-одессита,
ставшего на линию огня.
Красный бинт горит на свежей ране,
тело прижимается к земле…
Может быть, я с ним встречался ране
там, где свиток держит Ришелье.
Виден якорь сквозь матросский ворот.
Он шагал на орудийный вихрь,
умирал за свой любимый город,
воскресал в товарищах своих.
Верю я — мы встретимся, товарищ,
в летний день на боевом борту,
у старинной пушки на бульваре,
в разноцветном праздничном порту.
Полдень будет многолюдно ярок
на обломках свастик и корон!
Город — Воля, Город — Поднят Якорь
никогда не будет покорен!
Болотные рубежи
Болотные рубежи, холодные рубежи…
Уже не один ноябрь тут люди ведут войну.
Ужи не прошелестят, и заяц не пробежит,
лишь ветер наносит рябь на Западную Двину.
Как низко растет трава, как ягоды тут горьки!
Вода в желобах колей, вода на следах подков.
Но люди ведут войну, зарылись под бугорки
у вешек минных полей, у проволочных витков.
В трясину войдет снаряд и рвется внутри земли,
и бомбу тянет взасос угрюмая глубина,
а дзоты стоят в воде, как Ноевы корабли,
и всюду душа бойца, высокая, как сосна.
К болоту солдат привык, наводит порядок свой.
Живет он как на плоту, а думает о враге,
что ворог особо злой, что места сухого нет,
что надо на кочке той стоять на одной ноге.
Заместо ступеньки пень я вижу перед избой,
старинный стоит светец, лучина трещит светло.
На лавке лежит боец с разбитою головой.
И как его довезли в заброшенное село?
Он бредит, он говорит о пуле над головой:
«…Но если я слышу свист, то, значит, она не мне…»
А девушка-санитар приходит с живой водой,
с письмом от его сестры и с сумкою на ремне.
А прялка жужжит в избе, и сучит старуха нить.
И разве, чтоб умереть, добрался боец сюда?
А девушка перед ним, а раненый просит пить,
за окнами долгий гул, и в кружке стоит вода.
Он бредит, он говорит, что надо вперед, бегом,
что эта вода желта и рвотна, как рыбий жир,
что чавкает зыбкий грунт, как жаба, под сапогом,
что надо б скорей пройти болотные рубежи…
Товарищ, приди в себя, ты ранен нетяжело!
Не пули свистят вокруг, а вздрагивают провода.
Тут госпиталь, тишина, калининское село.
Ты выживешь, мы пойдем в литовские города.
За окнами вспышки, блеск, артиллерийский гул,
тяжелый и влажный снег врывается за шинель…
Но разве хотя б один о теплой избе вздохнул
разве в таких боях мечтают о тишине?
О, только не тишина! Скорее бы за порог!
А сколько осталось верст до Риги от кочки той,
до твердой земли полей, до камня сухих дорог,
до Каунаса, до небес Прибалтики золотой?
Нам каждый аршин земли считается в десять верст,
не реки, но и поля бойцы переходят вброд,
в туманах глаза бойцов отвыкли уже от звезд!
О чем же еще мечтать, как не о рывке вперед?!
Лучина горит в избе мечтанием о свече,
двух тлеющих папирос два движущихся уголька,
с затяжкой слегка зажглись три звездочки на плече
и поднятая, у губ помедлившая рука…
— Полковник! До нас дошло, что нашими взят Пропойск[3].
Когда же сквозь гниль болот прикажут и нам пройти?
— Умейте терпеть, майор! На картах у наших войск
помечены далеко проложенные пути.
Мы ближе, чем все войска, к границам врага стоим
отсюда дороги вниз, отсюда дороги вверх
и именно, может, нам придется огнем свои
пробить из воды болот дорогу на Кенигсберг.
Мы видели с вами Ржев, весь в кратерах, как луна.
Сквозь Белый прошел мой полк, а город порос травой.
Мы шли без дорог вперед, и нас привела война
за Велиж, где нет людей, изрытый и неживой.
Я с камнем беседу вел, имел разговор с золой,
допрашивал пепел изб, допытывал снег и лед,
я много сырых ночей впритирку провел с землей,
и все отвечало мне: болотами лишь вперед!
Поймите меня, майор, что значит такой ответ:
вперед — по сплошной воде, засасывающей шаг.
Так, значит, края болот не бездорожье, — нет! —
а тем, кто решил идти, — широкий, прямой большак!
Дорога труднее всех, глухая мура и топь.
Попробуйте-ка ногой, как муторна и вязка!
Но как ее не избрать из тысяч дорог и троп,
когда напрямик она к победе ведет войска?
Когда-нибудь эта жизнь покажется вам во сне:
измученная земля, изодранная войной,
и ранняя седина, и ранний ноябрьский снег,
и раненый здесь, в избе, за Западною Двиной.
Я вспомню тяжелый путь, где с вами я шел и вяз,
где наши бойцы вошли по пояса в мокреть,
и в послевоенный день потянет душою вас
собраться в повторный путь, поехать и посмотреть:
на проволочные ряды, на взорванные горбы,
на старые блиндажи, зарытые среди ржи,
на памятные следы величественной борьбы —
болотные рубежи, болотные рубежи…
Окруженные