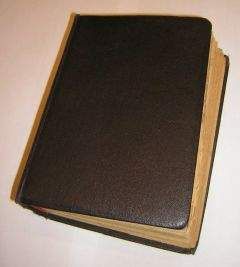Неизв. - i_166602c1f3223913
Из деревни подъехали кухни и обоз с хлебом и пайком; окопы оживились, из
блиндажей поднялись струйки дыма, и вторая смена рабочей команды
исправила повреждения, причиненные бомбардировкой. Солдаты, сытые и
довольные, повылезли из окопов и стали глядеть на работу могильщиков и
санитаров, которые уносили раненых в тыл, а убитых, раздев их догола, складывали в кучи. Убитых набиралось все больше и больше, и кучи росли с
каждой минутой.
Русские тоже показались на гребне своих окопов; они стояли, переминались
с ноги на ногу и глядя на тех людей, которых они еще этой ночью ходили
убивать и которые должны были убивать их самих, и изумленно и тупо
глазели на результаты боя. Вдруг среди них показалась большая пятнистая
собака. Она ткнулась носом в убитых, подлезла под русские проволочные
заграждения, взвизгивая от боли, потому что колючки рвали ей шкуру, и
подбежала и куче трупов, вокруг которой работали могильщики. Она всех
обнюхала, обошла кругом и бросилась прямо к австрийским окопам, не
обращая внимания на крики: «Казбек, сюда! Казбек!»
Она благополучно миновала заграждения и вскочила, словно кого то
разыскивая, в окоп; а затем она забралась в блиндаж, где с несколькими
другими солдатами сидел Швейк и обсуждал положение, – создавшееся после
боя и получения продовольствия.
– Наш поручик потребовал смены, – утверждал Швейк, – и ночью нас
непременно сменят.
– Ну, если бы нас собирались |менять, – возразил капрал Рытина, – сюда
не доставили бы горячей пищи, а тем более пайков. Позади нас, братец ты
мой, нет ни души; мы останемся здесь, пока нас всех не перебьют.
– Гляди, братцы, собака! И акурат, как мой Фоксль! – в восторге крикнул
в этот момент рядовой Клейн, бобыль из под Табора. – Фоксль, Фоксль, иди
сюда, иди, дурашка!
Он щелкнул языком; собака, виляя хвостом, остановилась перед ним и
позволила приласкать себя и взять за ошейник. И Клейн, счастливый, что
нашел тут что то родное, обнял собаку и поцеловал ее, приговаривая: – Ух, ты, собаченька, ух, ты, моя славная! И какие у нее красивые глаза!
Ни у кого на свете нет таких красивых глаз, как у животных, братцы. У
меня дома была пара волов, которых я сам и вырастил. И вот у одного из
них были такие глаза, что даже у девы Марии не могли быть красивее.
Братцы, – сказал Клейн как то странно в нос, – я жил только для этих
волов, только для них я и жил.
– Удивительное дело: жил для волов, а умираешь для его императорского
величества, – добавил Швейк к этому крику души. – А знаешь, друг ты мой, что…
Он остановился, потому что снаружи раздались взволнованные солдатские
голоса; потом слышно было, как говорил поручик Лукаш; вскоре все
затихло, в блиндаж заглянул какой то солдатик и шопотом сообщил: – Это потому, что сейчас перемирие, так они и явились; а то уж, конечно, не пожаловали бы! Для смотра приехали, братцы: сам полковник, чужие
офицеры, врачи и один генерал.
По окопам, в самом деле, проходил главный врач, доктор Витровский, тот
самый, который ночью прислал клозетной бумаги.
Этот главный врач был одержим навязчивой идеей, что дизентерия, холера и
тиф появлялись оттого, что в отхожих местах не было достаточного
количества бумаги; и вот он ходил по окопам и интересовался, сколько ее
потребляется для этой цели. При этом он объяснял своим спутникам: – Да, господа, чистота – великое дело. С заболеваемостью и смертностью в
армии можно бороться только при помощи клозетной бумаги.
Произнеся это мудрое изречение, он покинул во главе высоких посетителей
отхожие места и почти сразу же натолкнулся в окопе на странную
процессию. На развернутом куске брезента два солдата несли голого
человека, который весь судорожно трясся, бросался и от времени до
времени дергался всеми мускулами, над которыми он, невидимому, утратил
всякую власть.
– В чем дело? – спросил генерал, остановив солдат.
– Честь имею доложить, – еле выговорил от ужаса тот, который шел
впереди, опуская брезент с голым человеком на землю, – что это – живой
труп. Ему полагалось быть мертвым, а он жив; он был среди убитых и вдруг
ожил.
– Нервное потрясение от взрыва снаряда, – самодовольно заметил доктор
Витровский. – Вот извольте, господа: прекрасный, классический, великолепный пример. Это наш или русский? – спросил он, наклоняясь к
голому человеку.
Неизвестный безумным взором глядел со своего брезента на окружавшую его
группу начальства и ничего не ответил. Тогда генерал наклонился к самому
его уху и крикнул:
– Наш или русский? Чех? Мадьяр? Немец? Поляк?
Но вместо ответа тело несчастного бешено извивалось во все стороны, ноги
вскидывались кверху, точно в пляске, а руки как будто что то ловили, причем пальцы сжимались и разжимались. Тогда главный врач еще раз рявкнул: – Австриец или москаль?
У Лукаша мороз пробежал по коже при виде этого несчастного, голова
которого билась об землю и подпрыгивала, точно резиновая, а, врач, которому тоже становилось невмоготу, обратился к собравшимся вокруг
невиданного зрелища солдатам:
– Кто его знает? Это наш товарищ или враг?
Никто не знал этого. И вдруг откуда то сзади протискался к самому
генералу бравый солдат Швейк и, глядя в лицо человеческой развалины, извивавшейся у офицерских сапог, с мягкой улыбкой сказал: – Так что, дозвольте доложить, это – человек! Осмелюсь доложить, что
если люди разденутся догола, то они ничем не отличаются друг от друга, и
лишь с трудом можно узнать, откуда они и какого государства. Так что, ваше превосходительство, даже у собак приходится вешать номерки на
ошейники и даже гусям и курам надевать на ноги кольца, чтобы не
ошибиться, чьи они. Вот, дозвольте доложить, в Михле жила некая мадам
Круцек, торговка молоком, так у той родилась тройня, три девочки, а она, их родная мать, должна была нарисовать им чернильным карандашом разные
знаки на задках, чтобы не перепутать их, детей то, когда она их кормила.
– Да, да, это верно. Он – человек, он еще человек, – промолвил доктор
Витровский, кивнув своим спутникам. – Итак, господа, идемте дальше!
За его спиной побледневший поручик Лукаш схватил себя рукой за шею и
высунул язык, чтобы заставить Швейка замолчать и дать ему понять, что он
снова выкинул штуку, за которую ему грозило быть повешенным…
Батальон так и не сменили, и постылая жизнь тянулась изо дня в день
дальше. Грязь и чесотка усиливались, вши размножались в пропотевшем и
подолгу несменявшемся белье, и война, которую вели с ними глазами и
ногтями, была безуспешна. Ногти хрустели с утра до вечера во всех швах
рубах и подштанников, а на другой день начинали борьбу снова. Даже
изолированное положение Лукаша в его блиндаже, где ему не приходилось
непосредственно иметь дело с нижними чинами, не спасало его от серой
нечисти. Однажды Швейк заметил, как поручик искал у себя утром
подмышками и бросал в траву вшей, которых он просто выгребал оттуда; они
были крупные и откормленные, и Швейк ясно видел, как они, падая на
землю, вытягивали ножки.
– Так что, – вежливо заметил Швейк, – дозвольте спросить, господин
поручик, у вас тоже есть вши? Я с полным удовольствием натер бы вас
ртутной мазью, у меня есть целая баночка. Тогда, конечно, господин
поручик, у вас тоже еще были бы вши, но только они не ели бы вас.
Поручик Лукаш с благодарностью принял это предложение и подвергся этой
щекотливой процедуре, всецело отдав себя в ловкие руки Швейка. Затем, надев чистую рубашку, он открыл чемоданчик и, достав оттуда бронзовую
медаль, протянул ее Швейку со словами:
– Вот тебе, Швейк, носи на здоровье, прошу тебя. Возьми себе эту медаль
«за храбрость» за то, что не покинул своего офицера в опасности.
– Да вы и были в опасности, господин поручик, рассмеялся Швейк. – Еще
один день, и вши съели бы вас живьем… Так что, дозвольте доложить, я
пойду в лес за хворостом.
Русские снова начали стрелять: был уже вечер, а Швейк все еще не
возвращался с хворостом. Никогда еще он не отсутствовал так долго.
Поручик Лукаш послал Балоуна искать его по блиндажам. Спустя некоторое
время Балоун вернулся, перепуганный и весь в слезах, таща за собою
какого то незнакомого солдата. Он поставил его перед поручиком и захныкал: – Ах, ты, горе какое! Ведь Швейка то тоже больше нет в живых! Убили
нашего Швейка, в лесу убили!…
– Швейка? Кто убил Швейка? – взревел на Балоуна поручик Лукаш.
Балоун молча указал на незнакомого солдата; тот протянул поручику Лукашу
жестяной капсюль и сказал:
– Честь имею доложить, это именной капсюль того нижнего чина, которого
ребята, нашли убитым в лесу. Из вашей роты, господин поручик, и наш