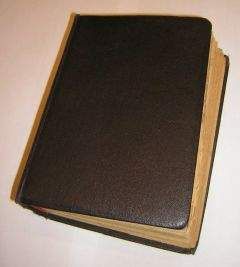Неизв. - i_166602c1f3223913
лопатки, но эти негодяи швыряли меня, как тряпку, так что в тот вечер я
уложил на обе лопатки только чемпиона Португалии, а чемпионы Германии и
России так и не поддались. На другой день тот, который изображал
чемпиона России, тоже дал себя победить, и цирк ревел от восторга. На
третий день Шимек объявил – с барабанным боем, как полагается! – что
съехавшиеся на состязание чемпионы вызывают сильнейших людей из Боузова
и его окрестностей бороться с ними на приз в пятьдесят крон. Вот на
вечернее представление приехали даже те, кто жил в трех часах езды от
города, и мне пришлось заложить чемпиону Германии такой галстук, что он
полетел вверх тормашками. А после представления все три чемпиона
напились в трактире пьяными, избили директора за то, что он слишком мало
им заплатил, и в ту же ночь взяли да уехали. Утром колю я за повозкой
дрова, и вдруг директор Шимек зовет меня, чтобы я на минутку прошел к
нему. В повозке сидит какой то незнакомый господин; он встает, подает
мне руку и говорит: „Позвольте представиться: Тухичек, здешний мясник.
Мне очень хотелось бы, господин чемпион, попробовать, какая такая у меня
есть сила“. У меня даже в глазах потемнело. Еще бы! Мужчина – здоровый, как бык. Ручищи – что лопаты, ножищи – что бревна. Взялся я это за ручку
двери и говорю: „Что ж, очень приятно. Но застрахованы ли вы на случай
смерти, господин Тухичек? Позаботились ли вы о. жене и детях? Видите ли, я принципиально не употреблю опасных приемов в борьбе с любителями, но
никогда нельзя знать, что может случиться!“ Господин Тухичек опечалился, а директор подмигивает мне, чтобы я вышел вместе с ним. И вот за
повозкой господин Тухичек конфузливо начинает: „Дело в том, господин
чемпион, что силы у меня достаточно, но я не знаю ваших приемов и
трюков… Послушайте, дайте мне положить вас“. Я, конечно, страшно
оскорблен и говорю: „Да что вы себе думаете, милостивый государь? Я –чемпион Европы и должен позволить вам положить меня на обе лопатки? Мне
приходилось бороться со Шмейкалем, с Фриштенским, Штейнбахом, Цыганевичем и негром Ципсом и всех их я отделал, что надо. Что ж, по
вашему, слава далась мне даром, что я ее ни за что ни про что могу
уступить вам? А он даже руки сложил. „Господин чемпион, – говорит, – вы
только то поймите: вы отсюда уедете, и в газетах об этом не напишут, а я
ведь здешний, и меня засмеют до смерти – вы наших боузовцев не знаете.
Ну, прошу вас, дайте мне положить вас, и я вам еще добавлю пятьдесят
крон и заплачу за вас в трактире за все время, что вы тут пробудете“. Он
тут же пригласил меня позавтракать с ним, так что я в конце концов
согласился на поражение, но выговорил себе, что оно последует только на
шестнадцатой минуте… Дорогой мой, за всю жизнь мне не пришлось испытать
того, что в тот вечер. Цирк, несмотря на утроенные цены, был битком
набит, и господин Тухичек обращался со мной, ну, прямо, как сорокопут с
майским жуком! Он давил меня так, что я задыхался, и швырял меня на
песок как несчастную лягушку; я за него только цеплялся, чтобы не упасть
от слабости. Наконец, я ему шепчу: «Ну, теперь!“ – и он навалился на
меня всею тяжестью и надавил мне коленом на грудь, а потом наступил мне
ногой на живот и начал раскланиваться перед публикой. Поднялся такой
рев, что в Зоботке люди выскочили в одних рубашках на улицу, а звонарь
полез на колокольню бить набат, будто Зоботку заняли пруссаки. А потом
директорше всю неделю пришлось растирать меня – до того я весь был в
синяках и подтеках!“
«Поэтому, братцы, – закончил Швейк свой рассказ, – нельзя было бы и
государям поверить, что они не условятся как нибудь сжульничать, даже
если бы они решили покончить дело между собою дуэлью или французской
борьбой. Вот когда однажды происходил чемпионат борьбы в Праге, то тогда
дело, действительно, было иное. В тот раз борец Урхаб из Германии
оторвал ухо и разбил нос нашему Шмейкалю, что очень усилило симпатии к
господину Шмейкалю. Он, знаете, размазал себе кровь по всей роже и
сказал по этому поводу речь, чтобы публика имела представление о том, что ему приходится терпеть за границей, раз даже в золотой славянской
Праге немец осмеливается так его отделать. Но потом в борьбе вольным
стилем он так отплатил Урбаху, что немец выл белугой, а две билетерши
чуть не умерли, помогая господину Шмейкалю руками и ногами, чтобы
берлинец не вырвался из его лап. А вечером оба противника напились
пьяными в „Графе“ на Виноградах и стали обниматься и целоваться, потому
что у борцов такой уж обычай – обращаться друг с другом по рыцарски. Но
только это длинная история, и я расскажу ее вам вдругой раз; а сейчас
мне пора уходить, потому что, пожалуй, уже раздают паек.
Он ушел, и вскоре раздалось в другом месте: – Братцы, завтра по всему фронту начнется наступление, и наша 12 я рота
первая покажет неприятелю, где раки зимуют. Пришел такой приказ от
самого императора; ему очень хочется, чтобы война поскорее кончилась.
Пока Швейк наводил в окопах панику, Балоун усердно разогревал на огне
свой котелок. Под влиянием вечного голода Балоун с легкостью пал жертвой
страсти, которая, впрочем, обуяла и других солдат: оцинковывать котелки
внутри и придумывать новые блюда с экзотическим вкусом благодаря
изменению полуды в котелке. Часто, возвращаясь, Швейк заставал Балоуна в
соседнем блиндаже чистящим котелок кусочком свиной шкварки; он обтирал
его тряпочкой, так что котелок блестел, как серебро. Затем он доставал
из вещевого мешка разные сверточки и пакетики и принимался объяснять: – Сперва ты, братец, положи туда кусочек сала, потом прибавь натертого
чесноку и несколько перчинок и дай поджариться. Потом возьми ложку муки, несколько штук чернослива и залей водой настолько, чтобы оно загустело, когда остынет. Можно положить и кусочек сахара, но во всяком случае не
забудь эту штуку посолить. А если ты еще прибавишь кубик сухого бульона
«Магги» и нарезанный ломтиками хлеб, то выйдет такая чудная еда, какой
не получить ни в каком ресторане.
Успех такого блюда можно было легко объяснить, потому что
продовольственное снабжение армии происходило с перебоями; русские зорко
следили днем и ночью и делали невозможным подвоз продовольствия в более
или менее значительном масштабе. Как только батальонный обоз начинал
грохотать вблизи какой нибудь деревни, на улице рвались снаряды. Кухня
подъезжала только под утро и останавливалась в получасе ходьбы от
окопов, и солдатам приходилось в темноте тащиться к ней со своими бачками.
Раздатчик принес три бачка с вареным рисом и накрошенным ливером на
девять человек; солдаты усердно проделывали новые дырки в своих поясах.
Хлеба выдавали по четверти буханки на день, а сыра – только дырки с
тоненьким ободком; кофейные консервы были дрянь, потому что на
консервных фабриках туда подмешивали вместо кофе отруби, а сала
приходилось на человека до такому маленькому кусочку, какими шпигуют
зайца. Но Балоун умудрялся готовить и из этого малого.
Однажды вечером русские принялись обстреливать деревню. Они открыли
стрельбу из тяжелых орудий и стреляли всю ночь; в течение дня они лишь
изредка посылали «гостинец», чтобы показать, что они не заснули, а с
темнотой огонь снова усилился.
Кухни не подходили, обоз был отослан обратно, так как снарядом убило
лошадь первой повозки, и огонь все время держался на линии дороги. Таким
образом пищи не раздавали двое суток, и в окопах голодали.
Поручик Лукаш разрешил съесть «неприкосновенный запас», но этот запас
был уже давно съеден и переварен; ибо, хотя унтер , офицеры обязаны были
ежедневно проверять у солдат наличность консервов, их все же тайком
съедали, чтобы в случае ранения или смерти в бою они не достались санитарам.
Война делала людей изобретательными: жестянки осторожно вскрывались по
самому краю, опорожнялись, потом их снова закрывали и носили пустыми; при осмотре консервы у солдат всегда оказывались в наличности, и прошло
довольно много времени, пока догадались, что жестянки надо брать в руки
и подвергать более тщательному исследованию.
К неудачникам, которые были изобличены в надувательстве по отношению к
своим начальникам, принадлежал и Балоун, сожравший свой неприкосновенный
запас уже на второй день, когда какой то плутоватый солдат научил его, как это сделать. И вот теперь он в отчаянии бегал туда и сюда, пытаясь
найти какую нибудь еду но ничего не мог раздобыть, так как консервы
Лукаша тоже успели исчезнуть. Балоун совершенно потерял голову и стал
болтать, что приближается светопреставление и начинается день Страшного