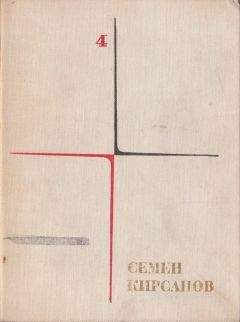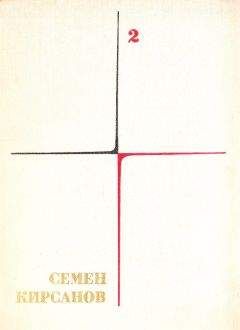Семен Кирсанов - Собрание сочинений. Т. 3. Гражданская лирика и поэмы
Ну и замерзли мы за день, простыли! Избы в селах пустые, жителей нет. Беда! Холодно стало, трудно в России. Из труб ни дымка, ни следа. Немцы — уже приходили сюда. Пусто, холодно, худо. Всех до конца угнали отсюда. И старика не оставили. Это чтоб нам не согреться нигде. Ходим до ночи в талой воде — снег не держится, тает… А как светает — морозец прохватывает, схватывает, и враз ледяные валенки, брат. Это Гитлер во всем виноват. В каждую хату руку засунул, вывернул с кровью на двор. Эх, поскорее б дернуть затвор, очередь дать по сукину сыну! Вот зашли мы в дом на постой. Дом пустой. Печь — развалина. Самим не согреться, не высушить валенок. Легли мы. Лежим, и дрожим, и шепчемся между собою: «Дойдем вот такие, продроглые, к бою, — в госпиталь впору лечь. Лучинки и то не зажечь!» А что, к разговору, если выправить печь? Не веришь? Ей-богу, будет гореть! И чаю сварить, и руки погреть… Материал в углу под руками, глина да грязь; не беда — побывать печниками. Слазь, да смотри не сглазь! Нам работать не в первый раз! Мы — комсомольцы, с ремесленным стажем! Давай-ка вот этот камешек вмажем. Теперь, брат, разогреем в печи концентрат. Замечательная штука — русская печь; в доме тепло и розово, в трубе — вой. А товарищи хвалят меня, Матросова: «Парень ты мировой, с головой! Выход находишь везде, с тобой в беде не погибнешь! Любим мы очень Матросова Сашку. Простой, душа нараспашку, и боец, и печник, и певец. Подбрось-ка еще в амбразурку дровец. А так — до утра бы синели мы…» Уснули бойцы, укрылись шинелями. Чего они хвалят меня? Ну, поправил печурку, ну, расколол сосновую чурку для тепла, для огня. Славно! Изба не коптится, и тепло-тепло. Чудится мне, что печка — дупло, поет из него золотая Шар-птица, и перо за пером улетает в трубу. Все спят. Мне не спится. Думаю я про нашу судьбу.
Я не отведал, я едва пригубил
от жизни, от весны перед войной.
Но помню — шло все бедное на убыль,
плохое уходило стороной.
Не буду лгать: довольство и богатство
не одарило радостью меня,
но время стало к маю продвигаться —
белее хлеб и глаже простыня.
Я не из тех, кто изучал в таблицах
колонки цифр о плавке чугуна;
не знанье — чувство начало теплиться
о том, что мы — особая страна;
что мы должны мир передвинуть к маю —
поближе к людям, честным и простым.
Вот объяснить бы, как я понимаю, —
жизнь, что создать на свете мы хотим!..
Перестеклить все окна? Землю вымыть?
Пересадить поближе все цветы?
Переложить все стены? Солнце вынуть
из угольной подземной черноты?
Передружить людей? Так небывало,
так неразлучно всех переплести?
Все, что земля от благ своих давала,
всем на открытый счет перевести?..
И было нужно много грубой стали,
работы в глине, в угольной пыли,
чтобы румяней дети вырастали,
чтобы пахучей ландыши цвели.
Нет, молодежь на жизнь не обнималась,
что пиджачки кургузы и серы, —
мы знали: это время приближалось,
зарей вплывало в темные дворы.
И начинала глина превращаться
в живое изваянье. В первый час
вот только что осознанного счастья,
как — взрыв, удар! И двинется на нас
потоп из выпуклых фашистских касок,
обвал их бомб, и хохот, и огонь,
и муравейник черепов и свастик,
и Гитлера простертая ладонь
ко мне: «Отнять!» — Не дам!
«Схватить!» — Не дамся!
«Убить!» — Я даром жизни не отдам!
Что ж! Испытайте грозное упрямство
бойцов, что не сдаются никогда!
Вам, господа, победой не упиться!
Посмотрим за последнюю черту:
Матросов — жив! А враг — самоубийца
с крысиным ядом в почерневшем рту!
Окончился лес. Гол
край земной.
Последней сосны ствол
передо мной.
Черная горсть изб
брошена в снег.
Вытянувшийся визг
мчится к сосне.
Крот ли это копнул
мерзлый песок?
Юркнули рыльца пуль
в кочку наискосок.
Разве уже? Да!
Точка. Уже.
Некуда. Ни-ку-да…
Рота на рубеже.
Чьи это, чьи рты
тонко поют?
Невидимки-кроты
в норки снуют…
Дальше — не перешагнуть
поле, брат,
дальше — к деревне путь
с бою брать,
рвать его, раздвигать,
пробивать
телом, к деревне гать
пролагать.
Только одной сосной
заслонен —
слышу, как просит: «Стой!..» —
снежный склон.
Не страшно — надежно стоять за сосною. Крепкие выросли в нашем бору. За ней — как за каменного стеною. Принимает огонь на себя, на кору. Стали шаги у ребят осторожными, глаза тревожными. Одни присели, другие легли. Втерлись в снег до земли. Весь батальон подобрался к опушке. Отсюда видна деревня Чернушки, так ее звать. «Чернушки», — шепотом вывели губы. На краю горизонта серые срубы. Знаем, ее приказано взять. Взять ее надо, а страшно. Страшно, а взять ее важно. Нужно из-за сосны сделать в сторону шаг. Говорят, что на запад отсюда широкий большак. И можно дойти до самой границы, до того столба. Может, и мне судьба? Или еще за сосной хорониться? Нет! Проклятая блажь! Ведь не другой, а я ж перед боем заранее сам говорил на комсомольском собрании: «Враги не заставят сдаться, друзьям не придется краснеть. Я буду драться, презирая смерть!» Так я вчера обещал ребятам и сейчас обещаю себе. И грею рукой затвор автомата: не отказал бы в стрельбе. Мы из-за сосен глядим друг на друга. Нет на лицах испуга. С веток слетают комочки из пуха, летят, маскхалат припорашивают и сразу же тают — весна. Лейтенант нас шепотом спрашивает: «Задача ясна?» — «Ясна!» — мы хрипло шепнули. Ну, прощай, спасибо, сосна, что верно меня заслоняла от пули…
Тогда не знал я точно, как сегодня,
когда смотрел из-за сосны вперед,
к какой нечеловечьей преисподней
принадлежал фашистский пулемет.
Ведется суд, проводятся раскопки,
исследуются пепел и зола,
Майданека безжалостные топки,
известкою залитые тела.
То кость, то череп вывернет лопата,
развязаны с награбленным узлы, —
теперь уже доказано, ребята,
что мы недаром на смерть поползли.
Тогда мне показалось, что на подвиг
не вызовут другого никого,
что день победы, будущность народа
зависит от меня от одного.
Мне показалось, что у сизой тучи,
потупив очи горестные вниз,
за проволокой, ржавой и колючей,
стоит и скорбно смотрит наша жизнь…
То принимает деревеньки образ,
то девочкой израненной бредет,
то, как старушка маленькая, горбясь,
показывает мне на пулемет.
Нет, Родина, ты мне не приказала,
но я твой выбор понял по глазам
там, у плаката, в сумерках вокзала,
и здесь на подвиг вызвался я сам!
Я осознал, каким чертополохом
лощина заросла бы, если мне
вдруг захотелось бы прижаться, охнув,
к последней и спасительной сосне.
Я не прижался. Ясного сознанья
не потерял! Дневная даль светла.
Рукою сжав невидимое знамя,
я влево оттолкнулся от ствола,
и выглянул, и вышел за деревья
к кустам, к лощине, к снегу впереди,
где в сизой туче сгорбилась деревня
и шепчет умоляюще: «Иди».
Последний ломоть просто
отдать.
И вовсе не геройство —
поголодать.
Нетрудно боль и муку,
стерпев, забыть,
не страшно даже руку
дать отрубить!
Но телом затыкать
огонь врага,
но кровью истекать
на белые снега,
но бросить на жерло
себя живого…
(Подумал — обожгло
струей свинцовой!)
Снег не скрипит под ногами уже — вялый, талый. Медлим. И ухо настороже — по лесу эхо загрохотало. Чего притворяться, сердце заёкало. Около вырылась норка от пули, выбросило росу. Защелкало, загремело в лесу. Иглы на нас уронили вершины. А с той стороны, с откоса лощины, бьет пулемет. Встать не дает: Слухом тянусь к тарахтящему эху, а руки — тяжелые — тянутся к снегу. Не устает, проклятый, хлестать! Опять лейтенант командует: «Встать!» Встать, понимаем, каждому надо, да разрывные щелкают рядом, лопаются в кустах. И не то чтобы страх, а какая-то сила держит впритирку. И в амбразуре стучит и трещит. Эх, заиметь бы какой-нибудь щит! Закрыть, заложить проклятую дырку!