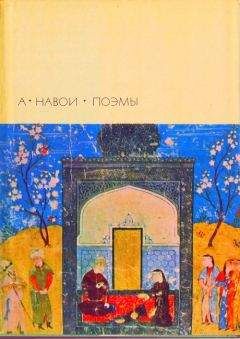Гянджеви Низами - Лейли и Меджнун
Лейли призывает Меджнуна
Лейли — игрушка в чьей-то злой игре
Была рабыней в собственном шатре.
Единственного друга лишена,
Неведеньем измучена, она,
Став пленницей судьбы, в ночи и днем
Грустила о возлюбленном своем.
Как дальше жить? Все нестерпимей ей
Тяжелый груз невидимых цепей.
Супруг в ночи бессонной до утра
Глаз не спускал с заветного шатра.
Страшился одного, что вдруг жена
Сбежит в кумирню, от любви пьяна.
Весь день он ей старался услужить,
Подарками и лаской ублажить.
Напрасно он старался, каждый раз —
В глазах Лейли презрительный отказ.
Однажды ночь темней других была,
И возле меда не вилась пчела.
В полночном мраке видеть не могли,
Как ускользнула из шатра Лейли.
И встала на скрещенье тех дорог,
Где соглядатай подстеречь не мог.
«Прохожий попадется здесь, бог даст,
И о любимом вести передаст».
Так и случилось… Странник вдруг возник —
Услужливый и ласковый старик.
На Хызра старец походил во всем, —
Он для заблудших был проводником.
Игрушка рока, пленница невзгод
Его спросила: «Мудрый звездочет,
Ты много знаешь, всюду побывал,
Неужто ты Меджнуна не видал?»
Ответил добрый старец: «О луна,
Юсуф в колодце, где вода темна.
И в сердце у него бушует шквал —
Ведь лунный свет затмился и пропал.
Знай, по кочевьям он бредет в пыли…
„Лейли, — взывает он, и вновь: — Лейли!“
Тоскливый вопль сопровождает шаг:
„Лейли, Лейли!“ — звучит во всех ушах.
Он одичал, как зверь бредет во мгле,
Не помышляя о добре и зле».
И от рыданий стан Лейли прямой
Согнулся долу, как тростник речной.
С ее очей, мерцавших, как нарцисс,
Агаты слез на щеки полились.
Воскликнула она: «Вини меня,
Из-за меня затмилось солнце дня!
Я, как Меджнун, с бедой обручена,
Но между нами разница одна:
Он бродит там в нагорной вышине,
А я в колодце на глубинном дне».
И бусы сорвала, а жемчуга
Насыпала в ладони старика.
«Возьми, — сказала, — и пускайся в путь,
Найди страдальца, вместе с ним побудь.
Прийти хоть ненадолго умоли,
Чтоб светоч свой увидела Лейли.
Укрой его в укромном уголке
От любопытных взоров вдалеке.
Где будет он, — мне скажешь шепотком,
Чтоб я взглянула на него тайком.
И с полувзгляда сразу я пойму,
Любима ль я, нужна ль еще ему.
Быть может, он прочтет мне о любви
Газели вдохновенные свои.
Чтобы стихи распутать помогли
Узлы судьбы измученной Лейли».
И старец, жемчуга забрав без слов,
Покинул ту, что чище жемчугов.
С собой одежду взял, чтоб хоть слегка
Одеть полунагого бедняка.
Пустыню, горы из конца в конец —
Все обыскал рачительный гонец.
Нигде Меджнуна не найдя следов,
Отчаяться уже он был готов.
И наконец в ущелье, среди скал,
Простертого недвижно отыскал.
Вкруг хищники свирепые рычат.
Его оберегают, словно клад.
Меджнун вскочил, он рад был старику,
Как сосунок грудному молоку.
Прикрикнул на зверей, и звери вмиг
Уняли свой недружелюбный рык.
Тогда старик, одолевая страх,
К Меджнуну, торопясь, направил шаг.
Почтительный сперва отдав поклон,
С учтивой речью обратился он:
«О ты, подвижник истинной любви,
Пока любовь жива, и ты живи!
Лейли, чья совершенна красота,
Хранит любовь и в верности тверда.
Она, не видя блеск твоих очей,
Не внемля звуку ласковых речей,
Поверь, мечтает только об одном:
Наедине с тобой побыть вдвоем.
И ты, увидя светозарный лик,
С себя разлуки цепи сбросив вмиг,
Прочтешь газели дивные свои,
И вновь начнется празднество любви.
Растут там пальмы, и, вздымаясь ввысь,
Резные листья, как шатер, сплелись.
Под ними травы стелятся ковром,
Родник вскипает звонким серебром.
В уединенной заросли лесной
Ты встретишься с Лейли, с твоей весной!»
С поклоном старец, как волшебный джинн,
С одеждой новой развязал хурджин.
Меджнун, руководимый стариком,
Смиренья обвязался кушаком.
И, торопясь, последовал за ним…
Так, истомленный жаждой пилигрим
Стремится, нетерпением объят,
К тем берегам, где плещется Евфрат.
А вслед за ним, следя издалека,
Шли звери, словно верные войска.
На этот раз, умилосердясь, рок
Ему достичь желанного помог.
Под пальмой лег он, звери отошли,
И в нетерпенье начал ждать Лейли.
А старец встал неслышно у шатра
И прошептал: «Лейли, ступай, пора!»
Она рванулась птицей из тенет,
Спеша к тому, кто, изнывая, ждет.
Вдруг сердце у нее зашлось в груди, —
Лейли стоит, не в силах подойти.
И шепчет тихо старцу: «Как мне быть?
Я шагу дальше не могу ступить.
Пылает светоч мой таким огнем,
Что, ближе подойдя, я вспыхну в нем.
Я чувствую, что гибель мне грозит —
Любовь грехопаденья не простит.
Возвышенная книга мне дана, —
Грехом не запятнаю письмена,
Чтоб от стыда не мучаться потом
И непорочной встать перед Судом.
Но если друг мой истинно влюблен
И совершенством духа наделен,
Запретную пускай оставит цель
И, удостоив нас, прочтет газель.
Из уст сладчайших будет суждено
Испить стихов пьянящее вино!»
Весну оставя, старец поспешил
К тому, кто ждал, уже лишенный сил.
Меджнун лежал под пальмою ничком
В беспамятстве глубоком и немом.
Над юношей склонясь, старик седой
Его обрызгал слезною водой.
Простертый на земле очнулся вдруг
И, увидав, что рядом добрый друг,
Он голосом, звенящим как свирель,
Запел печально дивную газель.
Меджнун поет газель Лейли
«О, где ты, где? Ты чья? И где все мы?
Навек твои, бредем в объятьях тьмы.
Аллаху слава, — суждено нам петь
О том страданье, что нельзя терпеть.
Мы каемся, не совершив греха;
Дерюгу носим, разорвав меха.
Блаженный в горе дух наш окрылен,
Освобожденный от цепей времен.
Летучей мышью с солнцем подружась,
В воде мы тонем, жаждою томясь.
Мы — побежденной рати главари,
Слепого стали звать в поводыри.
Нас род отверг, а мы горды родней;
Кичился месяц тем, что был луной.
Не выйдет трюк, коль опьянен трюкач,
Без ног и без стремян несемся вскачь.
Тоскуя по тебе, влачимся вдаль,
Ты, только ты — и горе, и печаль.
Пусть мы живем неспешно в мире сем,
Но быстро мы в объятья тьмы уйдем.
Ты приказала: „От тоски умри!“
В слезах я умираю, о, смотри!
И если знак тобою будет дан,
Ударю я в предсмертный барабан.
Волков зимой страшат мороз и снег,
И потому столь тепел волчий мех.
Напрасно „Доброй ночи!“ мне желать, —
Ночь без тебя не может доброй стать.
Уходишь ты, явиться не успев:
Ты пожинаешь не окончив сев.
Одной душой мы были на беду,
Что ж наши души ныне не в ладу?
Я должен преступить земной порог,
Чтоб ты прийти ко мне нашла предлог.
Душа моя безмерный гнет влачит,
Избавь ее от бремени обид.
Она тоской истерзана в груди —
Мне поцелуем душу возроди!
Душа, не одержимая мечтой,
Пускай слетает с уст, как вздох пустой.
Твои уста сокровище таят:
Исток блаженства, вечной жизни клад.
Весь мир — твоя невольничья ладья,
Мы все — рабы, но всех смиренней я.
Любимая, ты есть, пусть не со мной,
Но ты живешь, и в этом смысл земной.
Коль в сердце я тебя не сберегу,
Пускай оно достанется врагу.
Мы — это я, одно мы существо,
Двоим достанет сердца одного!
Мое страдает в ранах и крови,
Отдай свое мне, милость прояви!
Ты — солнце, я горю в твоем огне,
С тобою я всей сутью бытия,
О, если бы найти такую нить,
Чтоб нас навек смогла соединить!
Где мы с тобой такой чекан найдем,
Чтоб отчеканить нас сумел вдвоем?
Мы сходны с миндалем в своей судьбе,
Два ядрышка в единой скорлупе.
Я без тебя — ничто, утратил лик, —
Упавший в грязь, изношенный чарыг.
С тобою я всей сутью бытия,
Что ты отвергнешь, отвергаю я.
Я изнурен, и сам смогу навряд
Себя на твой перечеканить лад.
Мой бедный разум ослабел от бед,
Мне даже думать о тебе не след.
Душа моя, как тонкий лист, дрожит.
Она не мне — тебе принадлежит.
Собаки бродят у твоих шатров,
Я — пес бродячий, потерявший кров.
Возьми меня, определи в псари,
Вели мне: „За собаками смотри!“
Знай: звери есть, что пострашней собак,
Они подстерегают каждый шаг.
К чему мне блеск дирхемов золотых,
Мне родинки твои дороже их.
За родинку манящую одну,
Всю отдал бы звенящую казну.
Дождь плачет, чтобы весны расцвели;
Меджнун льет слезы о своей Лейли.
Луна моя, твой ярок ореол,
И от него свой свет Меджнун обрел,
Следят индусы за шатром твоим,
Меджнун средь них, но он для глаз незрим.
Я — опьяненный страстью соловей,
Рыдающий над розою своей.
Рубины ищут люди в недрах скал,
Я драгоценность в сердце отыскал,
О мой аллах, чудесный миг пошли,
Пусть призовет меня моя Лейли.
И вспыхнет ночь, прозрачная, как день,
И мы уйдем под лиственную сень.
Ушко в ушко шептаться там начнем,
Наполнив чаши праздничным вином.
Тебя прижав к груди, как кеманчу,
В душе сберечь, как дивный лал, хочу.
Хмелея от нарциссов глаз твоих,
От гиацинтов локонов витых,
На пальцы их хотел бы навивать,
Нахмуренные бровки распрямлять.
И знать, что в лунном тающем дыму
Ты мне навек досталась одному.
И подбородок — округленный плод,
И взор стыдливый, и румяный рот
Ласкать хочу нежнее ветерка,
Сережек бремя вынув из ушка.
Слезами орошая твой касаб,
Стихи слагал бы, как влюбленный раб.
К твоим стопам повергнув целый сад,
Цветущих роз дурманный аромат,
В объятья заключив тебя свои,
Поведал бы о мытарствах любви.
Пока мы дышим, любим и живем,
Любимая, приди, зачем мы ждем?
Не будь фантомом средь пустынь глухих,
Стань чистой влагой на устах сухих!
Я жажду, и душа изнемогла:
Она в груди, как зернышко, мала.
Ты зернышка надежды не дала,
Но кровь мою харварами лила.
Я горем пьян не по своей вине,
Ты отказала в райском мне вине.
Но праведным в раю разрешено
Пить в небесах священное вино».
И страстотерпец, мученик судьбы
В пустыню устремил своя стопы.
А та, чья с кипарисом схожа стать,
В шатер печально возвратилась вспять.
Кончина Ибн-Салама, мужа Лейли