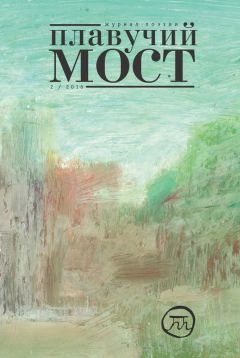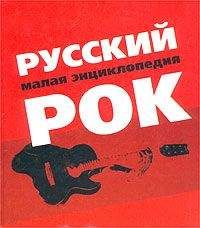Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №3/2016
* * *
Солнце ниже,
и тень наползает на двор.
Отче, иже…
Не помню, с каких это пор
за оградой
сижу я, седой, во дворе –
бородатый
с недремлющим бесом в ребре.
С жизни сдачу
отдал алкашу: на сто грамм
он всё клянчил,
и счет потерял я годам.
Отче, иже…
и долги оставь, как и мы…
Я всё ближе
к таинственной области тьмы.
Тихий вечер,
и воздуха пыльная взвесь.
Это Вечность
незримо присутствует здесь.
Звёзды ночи.
Галактик стремительный бег.
Знаю, Отче,
как дорог тебе человек.
Жили-были,
любили и шли к алтарю,
и в могиле
мы ждем Воскресенья зарю.
* * *
Мать, ты носила под сердцем
сына, но снова в Освенцим
поезд уходит – мы в ад
въехали. Дым сладковат.
Драконоборец Егорий,
видишь – дымит крематорий
иль Краматорск, лугадон.
Видишь, крылатый дракон
огнь изрыгает из пасти.
Это военные части
в адском смешались котле.
Шествует Вий по земле.
Он разлепил, поднял веки –
вымерли пашни и реки,
смерч или град-ураган –
общий могильный курган.
Это горят наши трупы,
это трубят в небе трубы,
град, ураган или смерч,
вихрем проносится Смерть –
из Откровения всадник.
Хлопец ли, псковский десантник,
смерч, ураган или град, –
мама, мы въехали в ад.
* * *
Я столько зим и столько вёсен
так трудно, Господи прости,
прожил, как будто мне грести
по топкой жиже, руки вёсел
срывая с визгом из уключин,
пришлось – и я теперь научен
столь горьким опытом, что даже,
когда передо мною гладь
чиста, как новая тетрадь,
настороже я и на страже,
на стрёме я – а вдруг не чисто?!
Так на картине у кубиста
того гляди мир на фрагменты
вдруг распадется – сплошь углы.
Не вырваться из топкой мглы
и не сорвать аплодисменты.
Но, может, смысл сокрыт и в этом –
стать фоном, тенью, а не светом.
Евгений Каминский
Стихотворения
Евгений Юрьевич Каминский род. в 1957 г. Поэт, прозаик, переводчик. Автор девяти поэтических сборников и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «Аврора», «Зинзивер» и мн. других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и мн. др. Лауреат премии им. Гоголя за 2007 г. Живет в Санкт-Петербурге.
* * *
На кладбище среди берез,
где воздух пополам с крапивою,
там, где природа в полный рост
стоит, не силясь быть красивою,
где между скрученных ветвей
то крест, то чудище античное,
сидит в засаде соловей –
такое вспыльчивое личное.
Ему и круча нипочем:
талант растрачивает попусту,
свистит, по сути, ни о чем,
срывается как крик над пропастью…
Клянусь, душа его пуста.
Не Лемешев совсем, не Собинов…
Но от любви поют уста,
в контексте кладбища особенно,
где разлеглась повсюду смерть,
куда зайти-то страшно с улицы,
где людям не на что смотреть,
а вот глядят – не налюбуются.
А вот стоят, открывши рты,
припадок соловьиный слушая.
И что скрывал как ужас ты
вдруг открывается как лучшее.
Не все ж нам тьма да власть ворон?!
Свисти, безмозглое ребячество,
чтоб, ухо навострив, Харон
забыл, зачем он нужен, начисто.
Чем не святой Иероним?!
Ведь вот лежит и не противится
смерть – переложенная им
кириллицей любви латиница.
* * *
В эпохе скончавшейся всё оказалось не в счет.
Напиться бы водки да где-нибудь рухнуть в осоку:
лежишь, будто мертвый, а жизнь себе мимо течет –
не учит уже и не требует мыслить высоко.
Вороны сутра в своих шубах на рыбьем меху,
как ангелы смерти, кричат непечатное что-то…
Вам часто казалось, что вы уже там, наверху,
и дней у вас тут для чего-то большого – без счета?!
Я верил, что хватит, как минимум, века на три
мне слова того, что во мне, словно в топке, гудело,
дотла выгорал тут, и – пламенем синим гори
любое другое, не столь сокровенное дело…
Что копья ломать?! Ничего изменить уж нельзя,
хоть пешка любая, надеясь на чудо исхода,
и жаждет вернуться на поле с мандатом ферзя
и мат наступившей эпохе поставить в три хода…
Осталось, пожалуй, то слово в асфальт закатать,
чтоб тут твоего сокровенного – как ни бывало…
Так нет же, лежишь, будто мертвый, таишься, как тать,
и слушаешь жадно чужое. И все тебе мало.
Смерть
Часа в четыре или в пять,
когда короткий сон – услада,
что в рай тебя спешит забрать
хотя б на пять минут из ада,
когда уж близко до зари,
и, сняв гетер, гяуры в яры
летят, сшибая фонари
крылом авто на тротуары,
когда проспавшим жизнь бомжам
пора бы уж и пробудиться,
как прочим жабам и ужам,
счастливым, впрочем, здесь как птицы…
я видел, как не восходил
день над Сенной и Караванной,
как, ниже кровель и стропил,
он крался, словно вор карманный,
минуя площади, мосты,
пугаясь собственного света…
И не хватало высоты,
чтоб жизнью посчитать всё это.
И значит, это смерть была,
что за плечами носит тихо
два перепончатых крыла,
огромных, как мечта у психа.
Что поджидает за углом
в тени, пернатая, когда ты,
ища по улицам свой дом,
к ней в лапы попадешь, поддатый.
А чтоб не выскользнул из лап
пожить еще, и для острастки,
она в тебя, как эскулап,
вонзает ужас Арзамасский.
А после, скинув свой мундир
и на себя пиджак твой меря,
дрожит, как бедный дезертир
с глазами загнанного зверя.
Смирение Иова
Вослед журавлихе синица
свистит, драму к фарсу сведя…
Тем легче с финалом смириться,
чем меньше в тебе от тебя.
Не сбылся прекрасный сценарий
огнем очищения душ.
Ну что ж, дотлевай, карбонарий,
твой уголь не надобен уж.
Не в Третьего Рима столицу –
вямало-ненецкий Надым
направила в пыль превратиться
судьба тебя, пьяная в дым.
Одна лишь от жизни усталость…
Но это еще не конец!
Еще раствориться осталось
во всем, в чем дышал здесь Творец.
Во всем, что душа так ценила,
на что, словно зверь на ловца,
летя, своей страсти чернила
могла изливать без конца.
И смерть не могла свое жало
вонзить, ведь, покуда ты гнил,
в тебе это жгло и дышало,
бумагу прося и чернил.
* * *
Не будем, пожалуй, на гуще гадать.
Чего еще надо,
пока изливает Господь благодать
на зверя и гада?!
Что проку ломать на грядущем сургуч,
мрачнея все пуще?!
Пока жизнь в себе ощущаешь хоть чуть,
и нети нам – кущи.
Жизнь есть, только смысла в ней, кажется, нет?
Нет, скажете, в ней-то?!
А если – за стенкой какой-то кларнет,
а может, и флейта
такое выводит с утра попурри,
(какое там скерцо!)
что кажется: крылья вдруг метра потри
раскроются в сердце…
Здесь музыку лишь и возможно понять
и гаду, и зверю.
А что в сад эдемский не пустят опять,
признаться, не верю.
Ну что, кроме вечной любви надо мной?!
Выходит, мне надо
лишь, пепел стряхнув с себя, двинуть домой
из этого ада.
* * *
Россия меня попросила
стихов не писать ей в ночи.
Ну, пару сонетов от силы,
а сверх – не по чину. Молчи!
Ведь здесь, где идешь до предела,
пока не дадут по рогам,
поэзии гиблое дело
по силам лишь полубогам,
как чайки кричащим, как сойки,
чей выбор, известно, каков:
по самому краю, вдоль Мойки
канать под тамбовских волков,
быть узников совести вроде,
но цепи не рвать, а скорей,
пиарить всю жизнь в переводе
на святочный ямб и хорей…
Но разве не рана сквозная
в поэте – стихи?! Иссиня
весь черный от ран, я-то знаю,
Господь здесь поставил меня
не ради той пары сонетов,
а чтобы мой голос дорос
до самых бесстрашных ответов
на самый проклятый вопрос.
Чтоб разом Россия примолкла,
услышав не трели, а вой
простого тамбовского волка
как истины голос живой.
Девочка
Девочка с Невского на Театральную площадь
альт драгоценный везет и, сжимая футляр,
слушает молча занозисто-льдистый на ощупь,
выговор улицы грязной, как черный пиар.
Что-то в ней есть, в этой простенькой, что-то такое,
что, сколько я ни пытаюсь, не в силах постичь,
что, раздражая слегка, вдруг лишает покоя
и превращает в ничтожное все тут опричь.
Вот и футляр, как негнущийся стан манекена –
гордый дурак без лица и без рук. А она
гладит на горле футляра горячие вены,
чтоб только стон его вдруг не сорвался со дна.
Там, в саркофаге, внутри бархатистого мрака
тонет вишнево-блестящий ее инструмент,
сохнет смычок, стынут струны, готовые плакать…
Там все, что музыке нужно, лишь музыки нет.
Грязь и февраль. И на весь этот мрак без испуга
смотрит она в своем ватном пальто и трико…
А как же туфельки, глупые рюшки, подруга?
Где ты сейчас? Полагаю, уже далеко.
Брось это гиблое… Сладкое рабство искусства
не для девчонок… Футляр. Остановка. Скорей!
Гладко-вишневый. В нём все ее мысли, все чувства:
радость, печаль и надежда… Лишь музыка – в ней.
Дворник