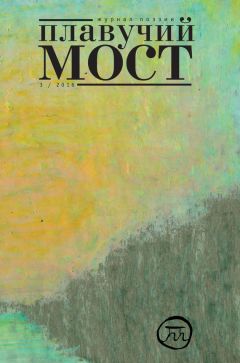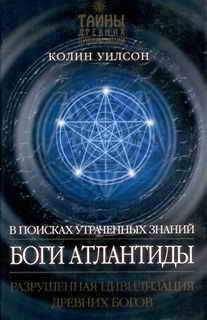Коллектив авторов - Плавучий мост. Журнал поэзии. №2/2016
Вера Кузьмина
Стихотворения
Родилась в г. Каменске-Уральском в 1975 году. Живу там же. Работаю участковым фельдшером. Очень люблю читать, в соседней библиотеке перечитала все книги.
Стихи пишу с 2011 года. Люблю лес, сад и людей – хороших. Писать начала в 2011 году. Печаталась в журналах «Наш современник», «День и Ночь», «Москва», «Наша молодежь», «Хомо Легенс», в газете «Графоман» города Вельска.
В основном – публикации не в реале, а в Интернете. Литературный псевдоним – venik.
От редактора
Когда было принято решение о публикации подборки Веры Кузьминой в этом номере журнала, я написал ей письмо с просьбой дополнить биографический текст, предваряющий подборку стихов, именно: «тем же слогом, с той же непосредственностью и ясностью взгляда на жизнь. Напишите о том, о чём не говорили в стихах. Свяжите это как-то со своим творчеством. Напишите то, что сами считаете нужным и возможным написать в прозе о себе. Как живёте, как выживаете. Без ёрничанья, без пренебрежительного тона в оценке собственной персоны. Надеюсь, это хоть как-то поможет читателю понять – откуда в ваших стихах столько из той жизни, которую большинство из нас старается не замечать». Вскоре я получил от Веры ответ, который с её согласия и публикую:
«Привет, Виталий. Вы меня здорово озадачили, если честно. Мне нечего сказать о себе кроме того, что я очень привязана к тому месту, где живу. Мой прапрадед был мастеровой и пьяница, моя прапрабабка рожала детей, пекла хлеб на продажу и рано умерла. Мой прадед был разнорабочий и пьяница, его задавила лошадь – переехала ему ногу. Перед смертью он обматерил фельдшера, потому что фельдшер был «ученая сволочь» и к тому же поляк – поэтому прадед отказался лечиться, потребовал стопку, закурил трубку и умер. Он оставил прабабку Анну Терентьевну с пятью детьми – были и еще, но умерли. Из-за детей прабабка все время была голодной. Любимого ее сына, красивого Степу, убили в первые дни войны. Второй сын, дядька Коля, за убийство попал в лагерь, строил Беломорканал, а когда пришел обратно, был лучшим литейщиком на вагранке и страшным пьяницей. Старшая дочь, Маня, жила в прислугах, прижила ребенка – девочку – от хозяина и ушла от него, когда девочка умерла. Поступила в домработницы к двум братьям-офицерам в Свердловск. В тридцать седьмом году их в одну ночь обоих забрали – тогда она, не будь дура, схватила свой паспорт и убежала домой – пешком. Потом она путалась с ворами. Средняя дочь, Татьяна, моя бабка, ухитрялась находить себе мужиков всегда, но замуж так никогда и не вышла. Младшая, Нинка, вышла замуж за эвакуированного хохла и одна из всех жила более-менее зажиточно.
Когда моя прабабка умерла, у нее остался один халат, одна юбка и два платка. И три рубля денег. Но хоронила ее вся Вороньжа – гроб несли на руках, сменяя друг друга, а до кладбища – семь километров. Я – это они. В той земле, на которой я живу – их кровь. Это очень бедная, очень плохая земля, но другой мне не надо. Не думаю, что вам было интересно это читать, Виталий. Так же неинтересно будет и другим – и еще читать про то, как я бегаю по вызовам, ухаживаю за старой мамкой, варю своему Петровичу гречневую кашу и копаюсь в огороде. Поэтому оставьте предисловие или уж не пишите вообще ничего.
С уважением к вашему делу и вам –
Веник Каменский:)»С учётом междустрочий – это роман страниц на 400. В междустрочьях – стихи Веры Кузьминой. Горькие, но и прекрасные, как сама жизнь.
Виталий ШтемпельДоверие
Помню старый двор, соседа Дюбеля
После третьей ходки на крыльце.
«На печеньку. Чо надула губы-то?»
Песни пел, срываясь на фальцет,
Снова заговаривал: «Дерябни-ка.
Чо, не хочешь? Ладно, бля, сиди».
Допивал, хрустел зелёным яблоком,
С хрипом рвал тельняшку на груди.
«Верка, никому не верь, запомни-ка.
Друг подставил, сука, скоморох,
Сделал из шахтёра уголовника,
Скажет пусть спасибо, что подох.»
Снова пил и плакал: «Друг, пойми же ты.
Я ж ему всегда, во всем… урод!»
Дюбель помер. Я зачем-то выжила.
Может, чтобы верить, хрен поймет.
Жизнь – не сто пятнадцатая серия,
Не щенячий визг «люблю-умру».
Нитка жизни из клубка доверия
Тянется, мотаясь на ветру.
Прав ты, Дюбель, был, когда советовал:
Мол, не верь, поверишь, сбросят вниз –
Только те, кто нам не фиолетовы,
Режут-укорачивают жизнь.
Стать родными – говорят, сокровище
В зачерствевшей ломаной судьбе.
Только беззащитной ты становишься,
Семечком, пушинкой на губе.
Обожглась. Обиды-то – немерено…
Но молчу, стирая соль со щёк:
Жизнь короче на одно доверие,
Только врёшь, не кончена ещё.
За грибами
Нынче всё остыло разом,
Иней на траве.
Мой хороший, кареглазый,
Спи в своей Москве.
Я сегодня за грибами:
Два ведра, мешок.
Месяц роет по-кабаньи,
Может, груздь нашёл.
Звёзды меньше, небо шире,
Месяц хочет есть.
У тебя в Москве – четыре,
На Урале – шесть.
В одеяло бы закутать:
Сон, тепло, уют.
Между нами не минута,
Больше ста минут.
Лесовик хихикнул в спину:
Вот и грузди, стой…
Пробивать мне жисть-суглинок
Глупой головой.
Думать: вдруг не срежут ножку,
На ветру дрожать
И любимому в лукошко
Прыгать без ножа.
Медвежонок точит коготь,
Весь восток в огне.
Как грибов-то нынче много,
Говорят, к войне.
Ты не думай о плохом-то,
Спи, хороший мой.
Зажую черняшки ломтик,
Всё, пора домой.
Лесовик смеется тяжко,
Пробежала мышь…
Я не срезана пока что.
Ты меня хранишь.
Не оставь
В этом теле – минимум три души, и у каждой больше семи путей. Первой прямо в руки плывут ерши: хороша уха для её детей. Ей с работы мужа-губана ждать, греть ведёрный чайник – с вареньем пей, и горбатых ландышей-жеребят запрягать в тележку неспешных дней. На святую Пасху рядиться в шёлк, красоваться – в ушках блестит рыжьё. Если вдруг заявится серый волк – за белёной печкой лежит ружьё.
У второй – в шатре конопля и плов, а её слова – золотой шербет. За неё Иаков служить готов восемь раз по восемь пастушьихлет. Запоёт псалмы – и заплачет полк: рядовые – Сим, и Яфет, и Хам. Ей не страшен даже тамбовский волк – слушать песни ляжет к её ногам.
А у третьей – кинь, и выходит клин, вместо крыш и лавок – одни горбы. Ей в ладони плачет пяток рябин и дубок у крайней кривой избы: за живых и тех, кто уже ушёл, за Васятку – мать заспала мальца, за Степана с заворотом кишок, за Никиту – он заменил отца. Всё бы славно, если б не три по сто, а потом пивка, а потом базлать. Третьей слышать: «нету для вас местов», «убирайся», «дурочка», «не со зла»…Третьей – с детства спать на краю крутом: у дощатой стенки сопит сестра. Серый волк-волчок залезает в дом, под лунищей шкура его пестра. Это сон, а может, лихая явь: подойдет и сцапает за бочок… Ты вот эту девочку – не оставь. Ей не выжить, если придет волчок.
Старые кварталы
Ветер доносит гудочки с вокзала,
Вечером стало легко и тепло.
Шляются пьяницы старых кварталов,
Веткой с куста заедая бухло.
Сидя на лавочке, кашляя глухо,
Крошки роняя с отвисшей губы,
Длинную улицу тянет старуха
Через соломинку тихой судьбы.
Деньги считает: «До пензии сотня…»
Смотрит, как, сотни затёртой серей,
Тени завмагов, врачей, домработниц
Трогают ручки подъездных дверей.
Смотрит, и видятся новые рамы,
Клумбы, люстрический белый огонь.
Тычется носом облезлая память
Тихой старухе в сухую ладонь.
«Ох, потолки-то! Гляди, как в столице,
Маньке б позырить, каки потолки!»
…слишком высокие, чтоб удавиться,
Проще дойти до Исети-реки,
Вдоль по Жидовской (Жуковского, значит),
Жданова (нынче Зеленая ул…)
Под ноги прыгнул резиновый мячик,
В тридцать четвертый годочек свернул,
Сбил Розенблатов кошерное блюдо,
Детски притих за цветочным горшком…
В тридцать седьмом увозили отсюда,
В сорок втором уходили пешком.
Видится: Ленин кудрявый и русый,
Галстуки, планы, колхозы, ситро…
Молча хранят алкаши и бабуси
Старых кварталов живое нутро.
В нас не убито – притихло и дремлет
Тяжкое, тёмное, злое, своё:
Слишком любить эту старую землю,
Слишком… почти ненавидеть её.
Бате
Перекину в прошлое тонкий мостик, чтобы думать, сравнивать, каменеть. Настоящий батя три раза в гости заявлялся к мамке… да нет – ко мне. Много было их, приходящих батек – дурачков безусых, уже в летах. Не хотела на руки – было, хватит. Научили, блин – довелось летать. Настоящий вешал пальто на гвоздик, нашу кошку-дурутрепал за хвост, а меня подбрасывал прямо в гроздья наливных, рубиновых, рыжих звёзд. На лице у бати рубцы, рябины, сам большой, здоровый-аж гнётся пол. Папка, можно, в небе сорву рябины, ярко-жёлтых слив наберу в подол? Папка, папка, глянь, пастушонок Зяма по дорожке лунной ведёт телят! Папка смотрит весело, ходит прямо. Говорит: дочурка, не смей петлять. Папка, правда, в небе не лазят буки – ну такие, в бурой ночной шерсти?