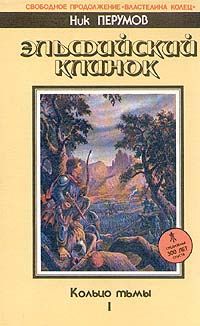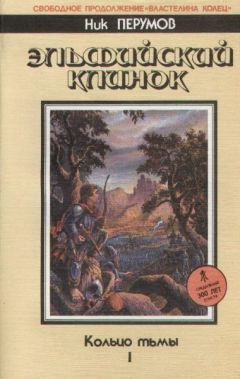Дмитрий Щербинин - Буря
Кто-то не выдержал, завопил, и «мохнатые», которые уже несколько дней ничего не ели, забывши и об страхе, и об почтительности к этому «божественному» месту — бросились за едой — выбили в том доме и окна, и двери — но их смогли остановить Даэн и Дьем. Вскоре они собрались на площади перед дворцом, и были уверенны, что в этой то неказистой (а для них божественной постройке), и скрывается верховное их божество…
Но, как бы там не было, а они остались недвижимые, и до самого утра простояли, все ожидая, что им скажут идти на слом — жертвовать своими жизнями ради спасения того, высшего божества. Конечно, никто им этого не велел, а Ячук и вовсе пребывал в растерянности так как не знал, как поступить с этой толпой.
Рассвет не принес никакого облегчения: где-то за городом выли волки, еще слышались крики всадников, еще зловещий гул доносился со стороны Серых гор, и надо было придумать, где раздобыть для эти пятисотенной толпы хоть какой-то еды, ибо они уж совсем одурели от голода, беспрерывно воображали себе что-то, клокотали, и постоянно приходилось их удерживать, чтобы не сорвались они, не бросились разрушать Самрул. И вот, когда небо наполнилось зловещим багровым светом, Ячук — в отчаянье, понимая что, либо он придумает хоть что-то, либо ничто их не сдержит — решил впустить их в часть домов (предварительно, конечно, выведя оттуда всех, кто там дрожал и молился) — и заявить, что еду они могут найти там. Конечно, это только от отчаянья он придумал — так как вообще положение складывалась отчаянное. Однако, к его удивлению, все сложилось наилучшим образом. «Мохнатые» разбредшиеся по этим уже опустошенным, убогим домишкам (а для них — прекрасными хоромами) — веруя, что найдут еду, действительно ее нашли. Прежде всего — им пришлась по вкусу мебель, а точнее — мягкие ее части — для их желудков это было настоящее блаженство. Нашли мешки с какими-то испорченными, темными крупами — и это было поглощено. Но и это было лишь преддверием того пиршества, которое началось уже ближе к закату. Дело в том, что двое «мохнатых» учуяли едва-едва уловимый запах выбивающийся из подполья одного богатого дома. В самом подполье ничего не было, однако, разворотили пол, и под слоем земли обнаружили доски, их сбили — под ними были бочки с медом, с вином, ящики с выпечкой, покрытой растительной мазью от очерствения… да многое, многое там было… Все заинтересованы были этой находкой, и когда нашелся толстый хозяин этого дома, то слезно покаялся перед Ячуком, что совершенно непосильные были налоги, а он любил покушать — причем вину в замысле этого тайника сваливал на жену, в два раза более толстую, нежели он сам… Тут поднялся страшный крик — жена вопила на него, он на жену, и каждый требовал, чтобы «вторая половинка» — была предана суду. Да — были бы прежние законы несдобровать бы никому из них; однако, Ячук только пожурил их малость за укрывательство, да отпустил… Потом и Ячук, и Даэн, и Дьем пытались остановить «мохнатых» от обжорства, но те уже и вина напились, и попросту не хотели понимать то, что от них требовали, все на свой лад истолковывали — запасы стремительно убывали, вино вливалась в зевы кажущиеся бездонные, и «мохнатые», никогда раньше не пившие, валялись в холодной грязи, и вопили, что «великий бог уже пришел!» и «счастье наступило». Вперемежку с этими дикарями валялись и недавние рабы, и жители города — наконец то они дорвались! И для тех, и для других близость «мохнатых» была совершеннейшим бредом, совершеннейшим бредом было и бездейственное их пребывание в крепости, и вот теперь не в силах найти какого-либо иного исхода для своих страстей и страхов, они нашли его в вине…
Что уж было говорить об обороне, когда некоторые из них упивались до такого состояния, что и умирали в своей рвоте, в ледяной грязи?! Это было какое-то безумие охватившее всех, в то время, когда из-за стен, казалось совсем поблизости раздавалось волчье завыванье, а еще иногда, издали — гневные выкрики всадников.
Конечно же любой, у кого была лестница или осадные крючья смог бы захватить в эти дни стены. Однако — всадники больше не нападали, так как после бойни с призрачными волками половина их была перебита, а в оставшихся пяти сотен — половина изранена. Они знали, что в крепости менее сотни защитников, но думали, что среди них есть и могучие маги — во всяком случае, чувствовали себя истомленными, и ждали подхода воинства государя Троуна (а он должен был подойти со дня на день). К тому же всадники постоянно видели призрачных волков — они больше не нападали, и даже не сбивались в стаю, но, подобные сгусткам темной поземки, перескакивали от сугроба к сугробу, и в этом зловещем движенье пребывала вся долина, так что казалось, всадникам казалась, будто их, разбитый на холме лагерь, есть одинокий утес в окружении враждебного им моря. Так же, знали они, что поблизости, в овраге, скрывается некая многочисленная армия, видели даже передвижение тех созданий, однако — и те создания не нападали на всадников, и всадники к ним не подходили, так как видели, что это дикари и говорить с ними не о чем — в нетерпении выжидали, когда придут войска Троуна…
* * *Уже близится к завершению эта большая страница моей хроники, и окончание ее вскоре за весенним пробужденьем, наступившим по воле Вероники. В то самое, сияющее солнечным светом, обильное птичьими трелями утро, армия государя Троуна, все эти дни и ночи судорожно поспешающая к этим местам, находилась совсем уже близко, и, когда грянул этот свет, они и Самрул увидели, и тут многие воины, до этого только и жаждавшие насладится кровью своих врагов, почувствовали, что ярость эта уходит, и вовсе им уже не хочется рубить кого-то, вообще причинять кому-либо какой-то вред — некоторые, конечно, считали это слабостью, пытались с собою бороться, но ничего у них не выходило. Многие начинали громко выкрикивать про ничтожество врагов, про свою честь, про то «что они отомстят», что возьмут крепость с налета, и прочее. Однако, они сами чувствовали, что говорят совсем не то, что им хочется, и, несмотря на все старания, злобные их голоса звучали жалко и потеряно на этом, сияющем весною фоне…
Для Фалко нашелся низкорослый конь, и вот теперь он скакал рядом с государем Троуном, и не оставлял попыток отговорить его от задуманного. Он просил почувствовать, сколь чуждо их поведение природе, где все есть любовь, все ласка, где все аурой нежных поцелуев окутано. Он проповедовал это с таким же жаром, с такой же уверенностью, что он сможет их переубедить, как он проповедовал некогда перед орками. Тогда его восторженные поэтические выкрики не были поняты — теперь он выкрикивал с еще большим жаром — чувствуя, что природа придает ему силы. Он говорил так громко, что голос его в этом спокойном, сладко дышащем воздухе разносился довольно далеко. Он плакал, он говорил, не останавливаясь, уже около получаса; и никто уже не кричал о скорой месте, все, как зачарованные слушали его.
— И стихи у меня для вас есть. У меня всегда стихи есть. Вот послушайте-ка:
— Когда на сердце злоба, когда в глазах темно,
Ты вспомни то, что дарит апрельское окно.
Там холмы золотятся, зеленые кусты,
И родники звенящие, как небеса чисты.
Ты вспомни сферу света, у молодой листвы,
Ты вспомни, как березки в спокойствии просты,
Как пташек многогласый сияет там сонет,
И как смеется звонко, пруд, бликами одет.
И как там все спокойно, как чисто все, свежо,
И хороводом крутится девиц младых кружок,
За дальними лесами грохочет уж гроза,
Но тихи и спокойны апреля небеса.
Фалко смотрел на Троуна с вдохновеньем, ища и в лике государя свет такого же вдохновенье — нет — теперь, выкрикнув эти строки, хоббит был совершенно уверен, что и государь и все воинство в умилении будут шептать подобные стихи, ну а клинки свои — эти предназначенные для рассечения живого и прекрасного железки — они отбросят в сторону. Он так хотел увидеть это просветление в лице государя и всех иных, что ему даже показалось, что он действительно его увидел. Но вот Троун заскрежетал зубами, выдохнул:
— Ну, все довольно! — тут он, с видимым насилием, над собою, очень возвысил голос, и зарокотал тем могучим и гневливым гласом, к которому привыкли эти люди, за долгие годы правления этого жестокого и сильного государя. — Сбросьте колдовство! Кто вы — воины или бабы ничтожные, чтобы поддаваться всяким чувствам! За убиенных братьев — растопчем ничтожных врагов!..
Он еще что-то кричал, и все в таком же духе, и воины также делая насилие над собою, опускали головы, выхватывали клинки, и начинали глухо, страшно, словно растревоженное гневливое море, выкрикивать: «Смерть врагам!.. Смерть врагам!.. Смерть!.. Смерть!..» — темнели их лики, в глазах появлялась и бол, ь и отчаянье. Фалко, видя это, и в какой-то детской наивности, еще полагал, что все можно остановить, что все это какое-то недоразумение. Он сначала взмолился к государю, но тот, против обычного благосклонного своего отношения к хоббиту, только раздражился, и замахнулся на него клинком — все-таки не ударил, но взглянул с такой неприязнью, что тот понял — его переубедить не удастся. И тогда он развернул свою лошадку, подлетел к этим рычащим, окруженным уже какой-то темноватой дымкой рядам. Ему было страшно: еще недавно там были сотни, тысячи умиротворенных красивых лиц — теперь что-то массивное, мускулистое, искаженное, готовое набросится — какой-то исполинский, страдающий выродок. Вот хоббит подлетел к одному из командиров, а это был тысячник, с железной палицей большей чем сам хоббит. Он возвышался над Фалко горою, мог с землей сравнять одним движением руки — он дергался, вытягивался навстречу Самрула.