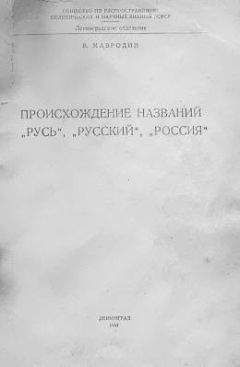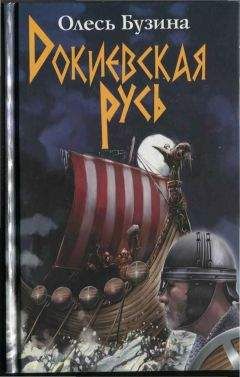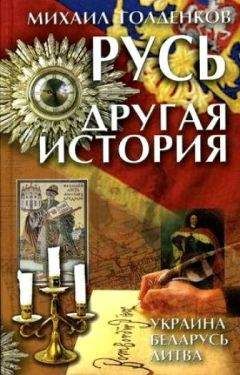Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
И все же театр Клоделя, а всякий раз это мистериальное действо на подмостках земного шара, и его лирика, напоминающая богослужение в просторном соборе, только издали кажутся гранитной глыбой без трещин. Предавшись богоугодному делу приветствовать Господа в лице его созданий, Клодель причинил ущерб своему могучему дару само довольством обладателя последней истины. И потому в его лирических книгах – «Познание Востока» (1900), «Пять больших од» (1910), «Corona benignitatis Anni Dei»[46] (1915), «Календарь святых» (1925), «Кантата для трех голосов» (1931), «Поэмы и слова, изреченные в пору Тридцатилетней войны» (1945) – множество страниц испорчено суесловием святоши, разжевыванием прописей катехизиса.
На свой лад, однако, вера и питала клоделевское чувство родственных уз со всем живущим, вскармливала его умение изумленно восторгаться чудом «тварной» плоти вещей и с барочной избыточностью воспевать их щедрое телесное богатство, их бурление в природном круговороте, где зачатие, рост, расцвет, плодоношение, гибель ни на миг не прекращаются. «Мистическому реалисту» Клоделю, как он метко был определен однажды (М. Раймон), не надо тянуться на цыпочках, чтобы завести беседу напрямую со звездами, и нет нужды нарочито наклоняться, чтобы различить под ногами былинку: вникая в непосредственно близлежащее, он ощущает себя всецело вовлеченным в космическое самоосуществление жизни по мудрому промыслу небес. Достоинства Клоделялирика – в способности быть одически всеотзывчивым и естественно грандиозным, улавливать позывные действительности слитно – сердцем, разумом, слухом, зрением, кожей и так же неразлучно сращивать в своем письме малое и огромное, витийство и разговорность, материальное и умозрительное, муку и ликование.
Ради такого совокупного, целостного освоения-обживания мира Клодель подогнал себе по руке безразмерный библейский версет (по его мнению, один из видов древнего свободного стиха), окончательно утвердив права вольной строки-абзаца во французком стихотворчестве, где к ней по-своему прибегало затем немало мастеров, от Сен-Жон Перса до Арагона. Заслуг французской классической силлабики Клодель не перечеркивал, однако был не удовлетворен в ней тем, что убаюкивающе мерным постоянством своих повторяющихся структур она навевает обманчивое чувство, будто и без волевой личной самоотдачи в каждый очередной миг наши «движения и мысли подстроены к порядку вечности», зато «отрешены от всего случайного и повседневного». Успокаивая, это ощущение своей бесперебойной включенности в однолинейную и однонаправленную необходимость миро устройства – ту самую, какой доискивался Малларме, – обедняет, спрямляет и уплощает жизнечувствие, размагничивает душу. И понуждает забыть, что действительный ход вещей куда превратнее, хитрее, богаче любых попыток загнать его в метрические колодки: ведь он, по Клоделю – и вопреки Валери, – от безгранично свободного божественного разума, а не от куцего людского рассудка. Опорой версетного строя Клодель поэтому и полагает не строгий счет, не равенство слогов в строке и попарную перекличку окончаний, а дыхание человеческой груди – живой клеточки самостийного в своей пульсации вселенского творения. Дыхание не механистично и не рационалистично, оно органично: бывает то глубоким, то легким, замедленным и учащенным, отрывистым или плавным, лихорадочным, мощным, покойным. Единственный его закон – вечная смена. Клоделевский версет построен на гибкой изменчивости длины строк с необязательной, поначалу совсем редкой, а позже как бы «проблесковой» ассонансной рифмой. Он растяжимо просторен в перебивах ритма, то музыкально распевен, то речитативно неспешен и рыхл, часто раскатист, подобно колыханию морской зыби, и всегда внятен в донесении всех нужных оттенков высказываемого, как в этом разговоре с близкими после благополучно и нежданно миновавшего приступа смертельно опасной болезни:
Прощайте, друзья. Мы пришли из такого далека, что вам не верится в это свиданье.
Да, немножко забавно и страшно. Но теперь уже все на местах, мир кругом – уютный и свой.
Про себя сохранить нам придется одолевшее нас беспощадное знанье:
Человеку нет пользы в себе, и мертвец уже прячется в том, кто считает, что он живой.
Ты при нас остаешься, жестокое знанье, пожирающее и пустое!
Слышу: «искусство, наука, свободная жизнь»… Братья, как же друг друга понять и почувствовать нам?
Дайте мне поскорее уйти, почему вы меня не хотели оставить в покое?
Мы никогда не вернемся к вам.
Мы уже на борту корабля, вы остались на суше, и убраны сходни.
В небе тает последний дымок, вы остались, уже не увидеться нам.
Только вечное солнце над водами, что созданы волей Господней.
Благодаря самоподстройке к любому заданию клоделевская строка-абзац с равной непринужденностью вмещает одический восторг, зарисовку, сакральное действо, устную беседу, грезы, пастырское наставление. Клодель поет вселен скую жизнь органно, ощущая в собственной груди мощную работу ее мехов.
Сравнительно с грандиозно-космичным, бытийственным католичеством Клоделя христианство другого «новообращенного», Шарля Пеги (1873–1914), было простонародно-патриотично и еще прочнее заземлено, надежнее укореняло слово в жизненной толще.
Страстный мыслитель, всегда без остатка «завербованный» очередной принятой им добровольно истиной; питомец философа Бергсона и в юности товарищ Роллана; публицист, сотрудничавший, а потом споривший с Жоресом; из датель с 1900 г. «Двухнедельных тетрадей», подыскавший себе рабочее помещение напротив постоянной мишени своих издевок – Сорбонны, Шарль Пеги возвел гордость семейными предками, виноделами и прачками с Луары, в долг совести представительствовать от их правды простолюдинов в культуре умов просвещенных. На разных отрезках кривой, описанной воззрениями Пеги за недолгие пятнадцать лет литературной деятельности, эта правда понималась им по-разному. Сначала – как социалистически окрашенное дрейфусарство; свою раннюю неуклюже-громоздкую драму «Жанна д’Арк» (1897) он посвятил «всем мужчинам и женщинам, которые проживут жизнь, всем мужчинам и женщинам, которые примут смерть ради того, чтобы исправить мировое зло», в особенности «ради торжества всемирной социалистической республики». Немногим позже – как пылкий до перехлестов призыв влить горячую кровь не слишком разборчивой воодушевленности отечественной историей в жилы одряхлевшей цивилизации XX века, которая страдает, по его диагнозу, бледной немочью прежде всего из-за злоупотреблений кабинетно-рассудочной умственностью. И в конце концов – как лечение этой цивилизации от худосочия при помощи сильнодействующего духовного настоя из христианской веры и помыслов о приумножении наследственных достоинств Франции, населенной, согласно выкладкам вне-церковной галлофильской теологии Пеги, народом-богоносцем.
Вера, побудившая Пеги качнуться от эссеистики к молитвенным лиро-эпическим песнопениям, раскупорив в нем, как оказалось, неиссякаемую стихотворческую скважину, – вера земляная, доморощенная, кряжистая. Обыденное и тленное священны в ней уже в силу самой своей принадлежности к созданному по воле Всевышнего. Поэтому ее главное таинство – чудо воплощения божественного промысла в телесно-природной, исторической и попросту житейской «тварности»; главная из трех богословских добродетелей – вторая, Надежда; главные места паломничества – в срединной Франции окрест Орлеана, Шартра, Парижа; главные святые – прародительница Ева, Богоматерь, Орлеанская Дева и все остальные заступники из французского религиозно-патриотического календаря, непременно у Пеги своим обличьем деревенские или ремесленно-слободские. Во славу их он с ошеломляющей скорописью сочинял огромные своды своих «мистерий», или, как определял их в других случаях, «ковров» (в убранстве православной церкви – пéлены): «Мистерия милосердной любви Жанны д’Арк» (1911); «Врата мистерии второй добродетели» (1911); «Мистерия младенцев вифлеемских» (1912); «Ковро тканые жития святой Женевьевы и Жанны д’Арк» (1913); «Ковротканое житие Богоматери», 1913; «Ева» (1913)).
Шарль Пеги. Гравюра Л.-Ж. Сула по портрету 1897 г. 1948
Кружащие – точнее, как бы топчущиеся вокруг одной-двух осевых содержательных нитей – излияния-молебны Пеги несообразно растянуты и трудноодолимы целиком. Зато местами, в отдельных отрывках, они покоряют нерасторжимым сплавом духовности и нутряной телесности жизнечувствия Пеги, всей своей истово торжественной простотой. Медленная тяжелая поступь повторов, напоминающих шаг пахаря по борозде после дождя, осаждает слух, заражает, втягивает; обстоятельное перебирание-выявление всех граней обычнейшего слова благодаря постановке в чуть измененное сравнительно с предыдущим окружение вскрывает богатство дремлющих внутри него смысловых залежей и внушает проникнуться заново ценностью корневых нравственных начал. Литургическую основу нигде не заглушает совсем, однако иной раз все-таки приглушает домотканое махровое узорочье. И тогда полновесны, внятно слышны сыновние чествования родной земли и клятвы беззаветно служить ее благу, тем более пронзительные, что оказались пророчеством собственной судьбы Пеги: