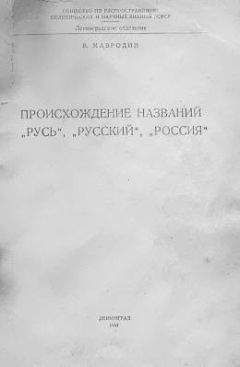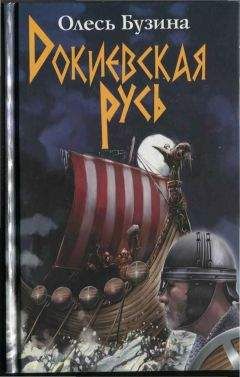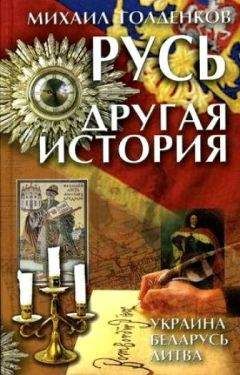Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Землепроходческое приключение протекает у Сандрара чаще всего как некое «градопроходчество» – как переживание обстановки людских скоплений и порожденных машинной цивилизацией XX века громадных средоточий домов, заводов, деловых учреждений. И если начинал он с того, что по-своему наследовал замешательство Бодлера и позже Верхарна перед разительной одинокостью горожанина в многолюдье уличной толпы, то постепенно и у самого Сандрара, и у других перекликавшихся с «авангардом» лири ческих градопроходцев эта настороженная тревога, не испарившись совсем, перерастает в зачарованность особым волшебством городского повседневья. Кладезь таких «чудес» обнаруживали, скажем, поэты из кружка унанимистов (Жюль Ромен, Шарль Вильдрак, Жорж Дюамель) в братской «соборности» самочувствия городских жителей, имеющей свои празднества благодати[51] – моменты радостного растворения личности в единодушии человеческих множеств, которые могут возникать на каждом шагу по самым случайным поводам и так же легко распадаться.
Другим побудительным толчком к тому, чтобы порушить давние заслоны, ограждавшие лирику от городской цивилизации, послужили споры вокруг напечатанного в 1909 г. во Франции манифеста Маринетти, вожака итальянских футуристов. С широковещательным до безвкусицы ухарством он бросил клич «воспеть огромные беспокойные толпы людей в их работе, вожделениях и бунтах; многоцветные и многозвучные приливы революций в нынешних столицах; ночную дрожь арсеналов и судоверфей, залитых светом электрических лун; прожорливые вокзалы, что заглатывают дымящихся змей; заводы, подвешенные к облакам на нитях дыма из своих труб; мосты, перекинувшиеся в акробатическом броске над дьявольскими лезвиями сверкающих на солнце рек; плывущие навстречу приключениям корабли на горизонте; паровозы с могучей грудью, скачущие по рельсам, словно огромные стальные кони, взнузданные длинными трубками; скользящий полет аэропланов и выхлопы их винтовых моторов, как восторженная овация или полосканье знамен на ветру».
Безудержный техницистский захлеб Маринетти и его советы отмести прочь все наследие прошлого как ветхий хлам не снискали во Франции охотников слепо им следовать; недолговечность стала уделом и чересчур лобового, зачастую попросту плоского описательства друзей Ж. Ромена, чаще всего неизобретательно робких в обработке дотоле едва тронутого жизненного материала. Собственно «авангард» искал поэтому свои, более пригодные ключи к городской цивилизации.
Так, различимый уже в сандраровской искрометной пря моте взгляд на бурно менявшуюся жизнь как на новоявленное чудо света сам по себе предрасполагал к «остраннивающим», каламбурно-игровым приемам передачи и самых заурядных будней. Первенство в такой исполненной серьезности озорной несерьезности принадлежало Максу Жакобу (1876–1944), обаятельному чудаку, выдумщику озорных сумасбродств и мастеру затейливого острословия, позднее, правда, впавшему в набожность и бежавшему в молитвенное деревенское затворничество. К парижскому житью-бытью уже ранний Жакоб подходил, крепко памятуя о кельтском фольклоре родной ему Бретани и храня убежденность: «чистый лиризм встречается в народных песнях да еще волшебных сказках для детей». Диковинно-сказочны и в своей радужности, и в своих кошмарах и столичные наброски жакобовского «Рожка с игральными костями». И даже тогда, когда со временем в мечтаниях-видениях Жакоба отголоски бретонских легенд густо прослоятся христианскими примесями, образовав переливчато мерцающую язычески-библейскую ткань чудесного, мистик будет в нем уживаться с лукавым мистификатором, сверхъестественно страшное соседствовать со смешным, безоблачность с апокалипсической мглой, наивное простодушие со страдальческой умудренностью. Прихоть нежданного случая для него не только всевластная повелительница жизни, но и хозяйка вдохновения, упорно избегающего закрепленности в одном настрое, «оборотнического». Поэтому Жакоб ошеломляюще непринужденно переходил от капризной фантазии к адской фантасмагории, от каламбура к молитве, от сладких грез к шутовской клоунаде, у которой иной раз примесь, так сказать, рококо XX века:
Поезда! По узким туннелям езда…
Эти розовые кабаре,
Где ведут свою жизнь цыгане,
Превратились теперь в острова
С вальсом розовым на поляне.
Едут мимо в своих авто,
Едут хрупкие дамы-рантьерши,
Словно в ящиках из-под лото.
Я тебя приглашаю, Элиза,
Совершить путешествие тоже
К тихим паркам или к дворцу
Венецианского дожа.
Мы цветы нарвем до обеда,
Бросив наши велосипеды
У враждебной ограды, чей стиль
Современен, как автомобиль.
Макс Жакоб. Автопортрет
Мы украсим своими руками
Велосипеды ветвями,
Поглядим, как струится вода,
Мятой пахнущая иногда.
Может быть, в машине пунцовой
К этим рекам вернемся мы снова,
Чтоб на воды их бросить взгляд,
Когда стукнет нам шестьдесят.
В том грядущем, весьма далеком,
Даже конь может стать ненароком
Наподобие птицы крылат…
Зарисовка из-за крена равновесия в играющей фантазии, да и в самой речи между началом изобразительным и началом выразительным в пользу последнего прорастает причудливой феерией, у позднего Жакоба всегда еще и подкупающе трогательной своей бесхитростностью.
Перераспределение удельного веса в языке и лирическом ви́денье мира двух этих вечно сотрудничающих-соперничающих начал – вообще стержневой вопрос поэтики для «авангарда». С «мимезиса», жизнеподобной передачи созерцаемого или исповеди перечувствованного, он всякий раз посильно сдвигает рычаг в сторону личностно-волевого претворения данностей природы и человеческого обихода, дабы не повторять того, что однажды уже было, привычно бытует и неминуемо отступает в прошлое. В манифесте-завещании Аполлинера, предсмертной его статье «Новое сознание и поэты» (1918), провозглашалось: «Поэзия и творчество тождественны: поэтом должно называть лишь того, кто изобретает, того, кто творит… Поэтом можно быть в любой области: достаточно обладать дерзновением и стремиться к открытиям»[53].
Доводы в поддержку философии своего дела как непременного созидания небывалого и пока что не-сущего, как воплощенной неканоничности, обычно черпались «авангардом» в ссылках на сближение всей культуры с опирающимся на науку изобретательством. Ведь еще в старину, по наблюдательному соображению Аполлинера, люди, задавшись целью ускорить свое передвижение по земле, придумали колесо, отнюдь не похожее на ноги, вместо того чтобы попросту их удлинить. Естественнонаучное знание, находившееся в чести у парнасцев за свою доказательную выверенность, а затем низложенное лириками «конца века» как злокозненный распространитель иссушающего здравомыслия, в глазах их смены обретает все свое достоинство благодаря созвучности духу обновляющегося снизу доверху уклада жизни, своей неудовлетворенности завоеванным вчера и нацеленности на завтрашние открытия. Уже не на священнослужителей, а на исследователей принято отныне равняться, усматривая свой долг в том, чтобы, как и они, изо дня в день «перестраивать привычный ход вещей… отменять истинность того, что было истиной накануне», неустанно «сражаться на подступах к беспредельному и грядущему» (Аполлинер).
Собственно, в этой уподобляющей себя научному поиску «езде в незнаемое» (Маяковский) и проступают вполне отчетливо те пере мены в самосознании, которые принес с собой «авангард» сравнительно с маллармеанцами, остававшимися на поле классики, хотя и исчерпывая ее посылки. Аполлинер не менее Малларме гордится своей принадлежностью к сонму «пророков», занятых, как сказано в одном из его писем, «делом наиважнейшим, первоосновным, божественным». Но при всей своей наследственной гордости он куда скромнее – не безгрешный жрец, а впередсмотрящий смертный – и, подобно обычным смертным, уповает на снисходительность потомков к возможным ошибкам в своих «вещих предсказаниях» («Холмы»). Устами его глаголет не святыня, во веки веков нетленная, как бы парящая над родом людским. Свою человеческую и человечную правду он ищет, колеблясь и заблуждаясь, найдя же, нередко в ней сомневается. И уж наверняка знает, что она не исчерпана им, не есть последнее откровение, что идущие вслед какую-то толику из нее благо дарно примут, а какую-то отвергнут, заменят, дополнят, уточнят, и так пребудет всегда. Вечно искание истины, нет Истины вечной. Но именно поэтому никогда не прекращающийся поиск-изобретение – альфа и омега утверждаемого аполлинеровским «авангардом» исповедания веры.