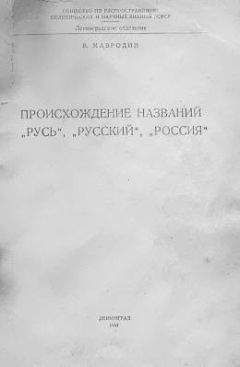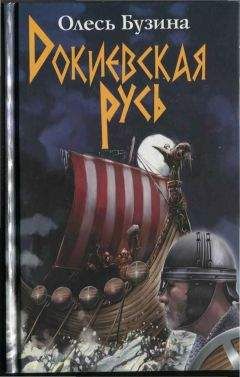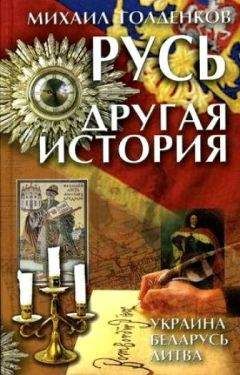Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Шарль Пеги. Гравюра Л.-Ж. Сула по портрету 1897 г. 1948
Кружащие – точнее, как бы топчущиеся вокруг одной-двух осевых содержательных нитей – излияния-молебны Пеги несообразно растянуты и трудноодолимы целиком. Зато местами, в отдельных отрывках, они покоряют нерасторжимым сплавом духовности и нутряной телесности жизнечувствия Пеги, всей своей истово торжественной простотой. Медленная тяжелая поступь повторов, напоминающих шаг пахаря по борозде после дождя, осаждает слух, заражает, втягивает; обстоятельное перебирание-выявление всех граней обычнейшего слова благодаря постановке в чуть измененное сравнительно с предыдущим окружение вскрывает богатство дремлющих внутри него смысловых залежей и внушает проникнуться заново ценностью корневых нравственных начал. Литургическую основу нигде не заглушает совсем, однако иной раз все-таки приглушает домотканое махровое узорочье. И тогда полновесны, внятно слышны сыновние чествования родной земли и клятвы беззаветно служить ее благу, тем более пронзительные, что оказались пророчеством собственной судьбы Пеги:
Блажен, кто пал в бою за плоть земли родную,
Когда за правое он ополчился дело;
Блажен, кто пал, как страж отцовского надела,
Блажен, кто пал в бою, отвергнув смерть иную.
Блажен, кто пал в пылу великого сраженья
И к Богу – падая – был обращен лицом;
Блажен, кто пал в бою и доблестным концом
Стяжал себе почет высокий погребенья.
Блажен, кто пал в бою за города земные –
Они ведь гóрода Господнего тела, –
Блажен, кто пал за честь родимого угла,
За скромный ваш уют, о очаги родные.
Блажен, кто пал в бою: он возвратился в прах,
Он снова глиной стал, землею первозданной;
Блажен, кто пал в бою, свершая подвиг бранный,
И зрелым колосом серпа изведал взмах.
Четверть века спустя после гибели Пеги в первом же сентябрьском сражении 1914 г. на Марне французское Сопротивление по праву числило его в своем строю, среди собственных запевал.
Есть, однако, в широкомасштабном разноголосье и Клоделя, и Пеги свои участки пониженной чуткости, свои пробелы. При всей весомой житейской предметности сущее у них, поглощенных навязчивым подтверждением мистической природы и заданных умыслом Божьим последних целей «тварных» земных вещей, вынуто из текущей истории, вне– и надвременно. И здесь – пределы сближения с жизнью, доступного всем певцам «христианского возрождения» во Франции рубежа XIX–XX вв. Старания этих уверовавших заново, как Клодель или Пеги, преодолевателей маллармеанства вывести лирику на прогулку по деревенским проселкам и горным тропам (Жамм), заставить ее окунуться в простор земных и космических широт (Сен-Поль Ру), углубиться в дали легендарного прошлого Франции (Фор) оставались полуответами на запрос, носившийся в воздухе, пока не увенчались – у Аполлинера и его соратников по «авангарду» предвоенных лет – перемещением на столбовые дороги цивилизации XX века. Из приключения метафизического французская поэзия по ходу этой поисковой разведки всего дотоле небывалого, что он с собой принес, вновь превращалась в приключение жизнеоткрывательское[47].
Колесо в помощь ногам
Собственно историчное в действительности – преходяще. И чтобы поворот к нему стал возможен, самосознанию лириков предстояло изжить в себе не просто навеянную «концом века» вражду ко всему буднично-бренному. Нужно было избавиться еще и от положительного противовеса этому отрицанию – от установки на улавливание в словесно-стиховые сети последней Праидеи всех вещей, будь она обмирщенной на платоновский лад, как у Малларме, или верооткровенной, как у Клоделя и Пеги. Философско-ценностному оправданию подлежали каждый миг, каждая грань и мелочь жизни самой по себе в их неповторимой однократности, безотносительности к священно-вечному[48].
Накопление приверженцами парижского «авангарда» необходимых для этого мыслительных предпосылок и навыков шло с разных концов, через пробы, ошибки, находки на ощупь. Но если все-таки наметить воображаемую точку, где бы пересеклись все внешне несхожие подступы к тому, чтобы разомкнуть порочный круг маллармеанского томления по бытийной непреложности, то смысл их предельно кратко может быть выражен заглавием книги стихотворений в прозе одного из друзей Аполлинера, Макса Жакоба, – «Рожок с игральными костями» (1917). Оно прозвучало не лишенным вызова благословением полной непредвиденных случайностей и именно тем драгоценной, захватывающей жизненной игре, которая повергала Малларме в уныние невозможностью «упразднить» ее «броском игральных костей»[49].
Простейшим из таких подступов, подчас прямым до прямолинейности, были землепроходческие «одиссеи» времен пароходов и железных дорог с широко распахнутым в этих лирических путевых дневниках географическим кругозором, с неусыпным упоением местными приметами и чужими обычаями (Валери Ларбо), самобытностью других культур и нравов (Виктор Сегален). Из встреч со всем этим ума, взращенного на иной почве, извлекались поучительные уроки: бывало очевидно, что собственная приглядка к вещам вовсе не единственно естественна, волей-неволей привыкали допускать истинность и других возможных истин.
Самого преданного и стихотворчески едва ли не самого остроумного своего поклонника тогдашняя муза дальних странствий нашла в Блезе Сандраре (1887–1961). Пребывание в пути было не просто укладом его кочевой жизни, но и преимущественным углом жизневиденья, задавшим сандраровским стихам их нестройный строй дорожных листков. Обращенность вовне, к броско необычному в постройках, одеждах, быту, равно как и ко всему порожденному научно-техническим изобретательством XX века, дополнена у Сандрара волей свидетельствовать о ломке самого восприятия действительности во времена, когда далекое сделалось близким, с головокружительной скоростью достижимым. От смятенного чувства затерянности в городских каменных дебрях, излившегося поначалу в «Пасхе в Нью-Йорке» (1912) в русле скорее привычного, исповедально-описательного лиризма, он быстро перешел к прямому, как бы документальному монтажу наплывающих впечатлений и мелькающих по их поводу мыслей при долгодневном железно дорожном путешествии по просторам России («Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской», 1913), а затем и к вычленению разрозненных мигов такого азартно-беглого ознакомления с миром, когда заглядывать внутрь себя и задумываться уже недосуг, а достаточно раз и навсегда порешить, что «существовать – это само по себе подлинное счастье». Внезапные, совершенно непосредственные соприкосновения приметливого взгляда с непривычными зрелищами, проплывающими, нередко про летающими, перед путешественником, который весь жадное внимание, ложатся у Сандрара на бумагу без видимой обработки – мимолетными, сиюминутными; сырье наблюдений сохраняет всю свою свежесть. И только отбор этих моментальных снимков да подчас их подсвеченность вспышками неожиданных до причудливости сопряжений друг с другом в назывных перечнях свободного стиха выдают преднамеренную обработку, подчиненность замыслу.
Вот наконец и заводы, предместье,
маленький и симпатичный трамвай.
Электролинии.
Улица шумная.
Люди, идущие делать покупки после работы.
Газгольдер.
Вокзал, наконец.
Сан-Пауло.
У такой этногеографической стиходокументалистики были свои подвохи – довольствоваться скольжением по поверхности вещей, и Сандрар этого не избежал. Но было и зара зительное своей лихой выдумкой выполнение немаловажной задачи: способствовать привыканию лирики к обогнавшей ее и не умещавшейся в прежние берега человеческой жизнедеятельности.
Землепроходческое приключение протекает у Сандрара чаще всего как некое «градопроходчество» – как переживание обстановки людских скоплений и порожденных машинной цивилизацией XX века громадных средоточий домов, заводов, деловых учреждений. И если начинал он с того, что по-своему наследовал замешательство Бодлера и позже Верхарна перед разительной одинокостью горожанина в многолюдье уличной толпы, то постепенно и у самого Сандрара, и у других перекликавшихся с «авангардом» лири ческих градопроходцев эта настороженная тревога, не испарившись совсем, перерастает в зачарованность особым волшебством городского повседневья. Кладезь таких «чудес» обнаруживали, скажем, поэты из кружка унанимистов (Жюль Ромен, Шарль Вильдрак, Жорж Дюамель) в братской «соборности» самочувствия городских жителей, имеющей свои празднества благодати[51] – моменты радостного растворения личности в единодушии человеческих множеств, которые могут возникать на каждом шагу по самым случайным поводам и так же легко распадаться.