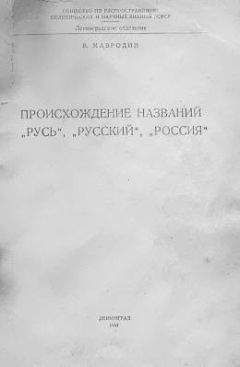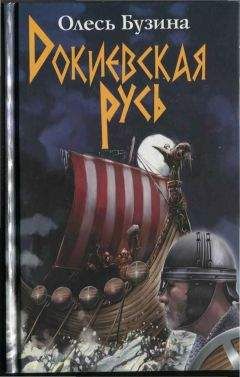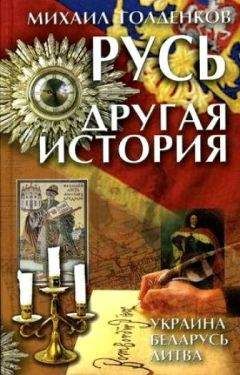Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Густо насыщенные чувственными токами интеллектуальные «чары» лирики Валери тем притягательнее, что навеваются мягкими намекающими касаниями пера, выверенны ми этимологическими и просодическими «неправильностями» при строжайшем равновесии всего порядка слов и строк. Подчеркнутое следование самым жестким нормам ковки закругленных периодов, слегка нарочитая гладкопись игра ют здесь как раз на тех возможностях оттенить особую свою смысловую нагрузку – свидетельство бережного хранения унаследованной от прошлого культуры, – что открылись в связи с распространением обновленных, неклассических ее орудий. Валери был среди первых на Западе XX в., кто громко забил тревогу по поводу «кризиса духа», как он на звал свою получившую широчайший отклик статью 1918 года. Словно бы обороняясь от оползня вековых ценностей, стройное изящество крепко, тонко сработанных созвучий Валери своей чуточку старомодной классичностью приглашает пом нить об источнике, ее питающем, – о самообладании воспитанного в картезианских привычках разума.
Когда я пролил в океан –
Не жертва ли небытию? –
Под небом позабытых стран
Вина душистую струю,
Кто мной тогда руководил?
Быть может, голос вещуна
Иль, думая о крови, лил
Я драгоценный ток вина?
Но, розоватым вспыхнув дымом,
Законам непоколебимым
Своей прозрачности верна,
Уже трезвея в пьяной пене,
На воздух подняла волна
Непостижимый рой видений.
Но это внешне наиклассичное картезианство XX века само кризисно, страдает от внутренней расщепленности. Да так болезненно, что при честном свидании с собой вынуждено свою скрываемую на людях тайну выдать, перелицевав Декартово «мыслю, следовательно, существую» в афоризм совсем другого рода: «Иногда я мыслю, а иногда я существую». Жизнь в мире неблагополучном, стремительно и порой грозно меняющемся, Валери никак не удается охватить сетями своей мысли, увязать все упрямо разбегающиеся нити действительности в один-единственный тугой узел. Однако расстаться со своей одномерной рационалистичностью за поздалый картезианец Валери ни под каким видом не желает. И, впадая в отчаяние от ее немощи, перекладывает вину за это на мироздание, где не обнаруживает решительно ни какой законосообразности, даже той развоплощенной, что Малларме изъял из ткани вещей, но все-таки подразумевал и за ней охотился. Гностическое упование учителя обернулось у Валери, исходившего из того, к чему тот пришел, агностическим замешательством.
Разница вскрывается наглядно, если вспомнить, как задумывал когда-то Малларме свой поиск точки опоры для «орфического» письма: «Я нашел ключ к самому себе, центр самого себя, где я держусь, как священный паук на осевых нитях, изготовленных моим мозгом, и с их помощью я сплету в точках пересечений сказочные кружева, о которых я догадываюсь и которые уже существуют в лоне Красоты». «Сказочные кружева», которые надеется сплести Малларме, «уже существуют» где-то в бытийном устроении, даны как предвещающая их канва; Валери же в этом разуверился: «О ЖИЗНЬ! Напрасно мой ум выискивает в тебе… ИСТОКИ и ЦЕЛЬ? ЛОГИКУ или ПЕРВОПРИЧИНУ? На худой конец СЛУЧАЙ…». Но тщетно, поистине там бездна, и в ней «хаос шевелится». Изнанка ведущего свою родословную от Декарта светлого разума Валери – чувство затерянности по среди кромешной тьмы творения, завещанное противником картезианства Паскалем. Законосообразность, по Валери, если и может обрести себе прибежище, то не иначе как в сокровенных средоточиях рассудка, саморефлексией высветившего свои недра и до того возгордившегося своим прозрачным совершенством, что для него «вселенная лишь изъян в чистоте не-бытия», а еще точнее, почти по Леконт де Лилю: «само Бытие есть странное всевластие Небытия». Из метафизического «абсолютизм» переродился в сугубо интеллектуалистский и, повиснув в пустоте, во многом выдохся. Перенос столь необходимых стихотворческой классике философских устоев в виде несомненных для нее упорядоченностей из онтологического грунта на гораздо более шаткую почву укорененного лишь в самом себе умозрения неизбежно обрекал эту культуру, никем законченнее Валери во Фран ции XX в. не представленную, на пониженную жизне стойкость, а ее просодические орудия – на частичную поте рю работоспособности. «Чарования» Валери – это француз ская строго классическая лирика на ее исходе, после Валери она мало-помалу угасает.
Ненадолго ей было еще суждено, правда, воскреснуть в годы патриотического Сопротивления, и на сей раз в полном духовном здравии[43]. Певцы сражающейся Франции почерп нули его из неколебимой уверенности в своем долге защищать родину со всем культурным достоянием ее прошлого от иноземного нашествия. Выпуклую добавочную содержа тельность этот подсказанный жгучей злобой дня возврат к традиционному стиху как к одному из носителей вековой народной памяти получал, хотя и в ином смысловом повороте, чем недавно у Валери, но тем же опробованным путем – сопоставительно с успевшим внедриться в обиход неклассическим письмом. Двойная опосредованность такого рода – сегодняшним по контрасту и былым по сходству – придавала тогда не только слогу, но и самой просодии сказовую подцветку. Так, у Арагона тех лет – о казни двух патриотов, плечом к плечу сражавшихся и погибших за Францию, католика и атеиста:
И тот, кто верил в небо, и тот,
Который в него не верил,
Любили прекрасную деву, и вот
Они за железной дверью.
На приступ шагали бесстрашно вперед,
Одной надеждой горели
И тот, кто верил в небо, и тот,
Который в него не верил.
…………………………………………
Сказали оба: она не умрет;
И все этой мерою мерил
И тот, кто верил в небо, и тот,
Который в него не верил.
Когда поля наши град сечет,
Для споров закрыты двери,
И только безумец их примет в расчет,
Об общих забыв потерях.
И тот, кто верил в небо, и тот,
Который в него не верил.
Краткость в высшей степени плодотворного возрождения стилизованно-канонической поэзии во Франции 40‑х годов тем не менее заставляет опознать в нем исключение из разряда тех, что подтверждают правило: вскоре после того, как миновали особые исторические обстоятельства, вызвавшие ее к жизни, она опять пошла на убыль.
Нельзя, конечно, ручаться, как частенько уверяют сейчас в самой Франции, будто это иссякание, сегодня там очевидное, необратимо. Но если французскому классическому сти ху и дано когда-нибудь снова зацвести, то уже не в одиночестве, как раньше, а получая от соседства – и, стало быть, взаимоопосредования – возобладавшей в XX в. неканонической просодии немалую долю своей измененной, дополнительной значимости.
Назад к благодати
Поль Клодель, Шарль Пеги
Другая разновидность доосмысления-пересмотра культурократического маллармеанства выглядит рядом с культуринженерией Валери более решительной. И свелась она к ходу мысли откровенно попятному – к откату на вероисповедные рубежи в надежде излечить лирическое жизневиденье от рассудочной дряблости стародавни ми христианскими снадобьями.
Нередкое в истории культуры обновленчество, прибегающее к оглядке через головы отцов на дедовскую архаику, во Франции XX в. приняло облик «христианского воз рождения». Философски оно пробует укрепить себя тем, что спускается в глубь доренессансного и докартезианского прошлого, к средневековым богословам – к Блаженному Августину и Фоме Аквинскому, а собственно в лирике дает внушительное число молитвенных «теодицей», проникнутых вероисповедным рвением. Вместе взятые, они обозначают самый, пожалуй, непростой парадокс французской литературы нашего века, предвещанный еще покаянно-благостными исповедями Верлена: после почти трех столетий преобладания в ней настроя светского (даже у таких верующих, как Бальзак, Гюго или Бодлер), посреди цивилизации все более безрелигиозной, при неуклонно пустеющих храмах, нежданно-негаданно выдвигается чреда просвещенных мастеров с громкими именами, от Клоделя и Пеги до Мориака и Бернаноса, – а поблизости от них достойны быть упомянутыми и такие мыслители, как Маритен, Марсель, Мунье, Тейяр де Шарден, – которые впрямую ставят свое перо на службу ценностям, даруемым откровением веры.
Причины вспышки «христианского возрождения» в умственной и культурной жизни Франции XX в. не просто в натиске охранительных поветрий и происках церковных «ловцов душ», как обычно – но лишь отчасти верно – считают, упуская из виду, что левые христиане-демократы причастны к нему ничуть не меньше политических консерваторов из стана французского «почвенничества», не уступающих в оголтелости своим иноплеменным соперникам-единомышленникам. Природа этого «возрождения» перестает быть смущающе несообразной в свете серьезного обдумывания мыс лей Маркса о вере как «духе бездушных порядков» и «сердце бессердечного мира»[45]. Огонь ее взметнулся прощальным пламенем в культуре скорее всего как раз потому, что затухал в самой обыденно-повседневной жизни с ее оснащенными все ми достижениями разума бездуховностью и бессердечием в позднебуржуазные времена: «правда выше» чудилась твердыней нравственного противостояния бессовестной земной неправде. И тем притягательнее был оплот веры для лириков, пекущихся о душе по самой сути своего дела, чем яснее вырисовывался провал добывания безмолвной святы ни-заменителя по советам Малларме. Не случайно среди поборников запоздалого, но и спустя почти полвека питавшего мощную поросль поэтов Сопротивления, да и поныне не иссякшего «христианского возрождения» сравнительно немного таких, кто бы раньше не покидал лона церкви или от нее не отдалялся. Зато в избытке новообращенные, для кого храм Божий не столько отчий дом, где живут с младенчества до старости и без него себя не мыслят, сколько убежище от собственного смятения перед нагло воцарившимся лихолетьем. В их умах само богополагание подстраивается к запросу личности и из него вытекает: уверенность в том, что зиждитель и залог вселенского благоустройства доподлинно есть, как были убеждены когда-то, потеснена пылким упованием на то, что он не может не быть, раз в нем испытывают сердечную нужду, иначе не к чему прислониться, все бессмыслица и все дозволено.