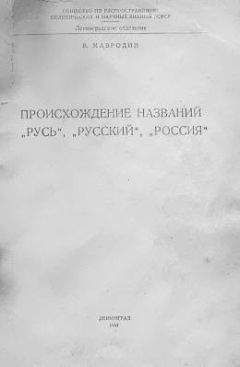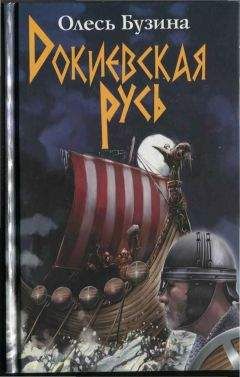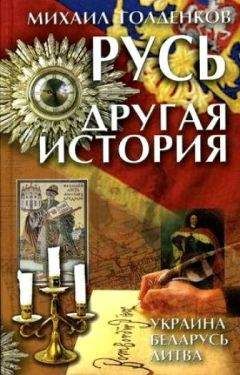Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Отсюда, с перепутья истекающего «конца века», где продвинутый дальше всех абсолютист от стихотворческого дела Малларме усомнился в существе абсолютистских воззрений на цели и возможности лирики, и расходились во Франции все последующие попытки как-то по-другому, в ином ключе мыслить саму постановку задачи поэтических поисков. Завещание-афоризм наставника о бессилии заполучить непреложность мирового всеединства счастливым «броском игральных костей» на сей раз было воспринято не как совет следовать по проложенной им дороге. Наоборот – как предупреждение о тупике, куда заводит чересчур истовое исповедание культурократической веры.
От культурократии к культуринженерии
Поль Валери
Даже самый верный из питомцев Малларме, последний во Франции великий стихотворец-классик Поль Валери (1871–1945)[40] – единственный, кто внешне не отступался ни от философии, ни от строгих правил письма своего учителя, – в действительности очень многое и истолковывал, и делал на постмаллармеанский лад; преемство тут было, скорее, изживанием унаследованного.
Недаром между пробами пера Валери-лирика, где он хотя и не подражал слепо Малларме, но оглядывался на своего кумира так же почтительно, как Малларме в молодости на Бодлера, и зрелыми достижениями Валери пролег своего рода «переход через пустыню» молчания длиною почти в двадцать лет: дав зарок стихов не сочинять, он предался тогда уединенной умственной работе по уяснению для себя сути всякого труда в культуре. Но и возвращение Валери на по роге пятидесятилетия к ранней своей стихотворческой страсти было недолгим. Вскоре он распростился с нею навсегда и снова с головой углубился в то, что можно было бы назвать по-кантовски «критикой поэтического разума», – в тщательное аналитическое рассмотрение коренных предпосылок поэзии, самой ее возможности, законов, по которым она делается, и той беспримесно-самородной квинтэссенции, что зовется, собственно, «поэтичностью». В результате Валери вошел в историю французской словесности как poeta doctus XX столетия, соединивший в себе – счастливо или противоречиво, тут мнения расходятся, – блистательного мастера «Чарований», имевшего право без излишней самонадеянности озаглавить так в 1922 г. книгу своей поздней лирики, и геометра от умозрения, который в похвалах вдохновенному наитию не усматривал ничего, кроме ереси.
Философствовал Валери как наследник Монтеня и других французских мыслителей-«моралистов» XVI–XVIII вв. не трактатно, а эссеистически, с остроумием мозаичным, раскованнее всего выплеснувшимся на страницы его посмертно обнародованных «Тетрадей» – ежедневных предутренних записей. Беседуя обо всем на свете вперемежку, по большей части – о природе и протекании самых разных видов умственной деятельности, он всегда бывал одержим «неблагоразумным желанием понять до последних пределов, доступных разуму», и неизменно сосредоточен на «отыскивании той центральной мыслительной позиции, откуда все познавательные начинания и все операции искусства становятся равно возможными». Подобная интеллектуальная пытливость, на правленная прежде всего на исходную методологию сознания и созидания, на способы постижения вещей и приемы творчества в культуре, уже несет в себе зародыши сразу двух – противоположных при их заострении – установок ума, между которыми Валери постоянно колебался. Одной, неистребимо скептической, исполненной уверенности, будто полученная в конце концов разгадка устройства тех или иных про изведений духа позволяет воспроизвести то же самое с малосущественными отклонениями, и потому довольствующейся убеждением в своей способности это осуществить, каковую совсем не обязательно пускать в ход на самом деле. Другой, деятельно-волевой, подвигающей предаваться самостоятель ным трудам, коль скоро удалось уразуметь конструктивные правила производства в избранной области, будь то наука, живопись, танец или зодчество.
Во всех случаях упор у Валери сравнительно с Малларме исподволь, но ощутимо перенесен с того, что в ходе работы над словом ищется и достигается, на то, как искуснее делается – с мирового всеединства на довлеющую себе всеумелость. Есть в этом смещении какой-то непоправимый внутренний надлом, сердечная недостаточность, а то и само выхолащивание[41]. Для Валери в «словах нет никакой глуби ны», они «созданы не согласно “природе вещей”, а согласно потребностям обозначения» вещей, и при построении «речевых фигур» – метафор, стиховых узоров, метрических эффектов – почти все сводится к безошибочно меткому попаданию на ту или иную струну воспринимающего сознания так, чтобы вызвать нужный отклик. «Орфическая игра» Малларме с ее нацеленностью ни больше ни меньше как на онтологическое «объяснение Земли», переиначивается Валери в сугубо орудийное «искусство играть чужой душой», метафизика Абсолюта в математику интеллекта, культурократическое служение – в инженерию от культуры.
Поэтому, отдав на первых порах дань владевшим Малларме помыслам о зиждительной непреложности, спрятанной за ликами предметно-случайного, Валери в конце концов пришел к трезвому примирению с уделом при случае только «упражняться» в мастерстве заведомо неполного приближения к цели. И без душевных терзаний мученика совершенства Малларме принял ту истину, что любой труд, как бы искусно он ни исполнялся, «никогда не бывает закончен, а просто прекращен». Эпиграфом к своему хрестоматийному «Морскому кладбищу» Валери поставил строки из Пиндара: «Душа моя, не стремись к жизни вечной, а постарайся исчерпать то, что возможно здесь» – лозунг немыслимый в устах максималиста Малларме, томившегося на земле в тоске по вечной «Лазури». Самое безупречное стихотворение в глазах Валери отнюдь не «образ абсолютного, а образец возможностей духа»; что же касается «Идеала», обронил он однажды, то это всего лишь «манера брюзжать» по поводу действительности, не такой уж, в конце концов, несовершенной.
Поль Валери в 1921 г. Рисунок Пабло Пикассо
Священнодейство лирики, как понимали ее Бодлер и особенно Малларме, низводится Валери просто до очередных задач садящегося за свои экзерсисы к письменному столу. И заключаются они не в выходе за пределы всегда ограниченного созерцания отдельных явленностей, в дали безличных сущностей, а в посильном высвечивании смысла каждой такой встречи личности с сущим, очищенного и углубленного благодаря достоинствам слога во всем блеске его отточенных за века навыков и выверенно пускаемых в дело необиходных секретов. Согласно Валери, «поэт посвящает себя и отдается тому, чтобы выделить и образовать речь в речи; и старания его, длительные, трудные, тонкие, требующие разностороннейших способностей ума, никогда не доводимые до самого конца и себя полностью не исчерпывающие, направлены на то, чтобы выработать язык существа более чистого, более могущественного и более глубокого в своих мыслях, напряжен нее живущего, более изящного и находчивого в высказыва ниях, нежели любая действительно живущая личность». Пре восходная степень уступает тут место сравнительной, сверхчеловеческие перегрузки забот о душеспасении рода людского – умеренному благоразумию «человеческого, слишком человеческого».
Но тем самым восстанавливалось в правах неабсолютное, довольствующееся лишь тяготением к Абсолюту, – все то, что привлекало ортодоксальных маллармеистов исключи тельно как бледный отсвет, отраженная тень бестелесно-развоплощенных святынь. Валери заново обретал оправдание тому, чтобы внимать без неприязненной опаски щедротам природной яви и вдумчиво, однако непосредственно наслаждаться каждым оттенком, крупицей необъятного богатства вещей. Уступка относительному, вопреки искушавшему Валери-мыслителя сведению духовной жизнедеятельности к чисто умозрительной основе, понуждала его и в лирике воздавать должное не то чтобы сердечной, но чувственной стороне созерцания и раздумья. И соответственно смягчала, так или иначе питала холодноватое, но все же не гаснущее пламя, которым светится поверенная таки алгеброй гармония изощренных «празднеств интеллекта» (не мозга в его целостности, как у Бодлера!) этого на редкость мастеровитого зодчего безукоризненно стройных словесных сооружений.
«Средиземноморское язычество» Валери, о котором так охотно всегда толкуют, вместе с тем лишено первородной мощи. Оно подстрижено, как версальские сады, имеет неистребимо книжный привкус – нет-нет да и отдает само уверенной узостью парижского интеллектуала, мнящего, будто ключи мышления, способного вобрать в себя весь белый свет, вытачиваются саморефлексией в кабинетной тиши. Еще юный Валери, пока что вывязывая по заимствованным у Малларме рисункам собственное грациозное, изысканно музыкальное словесное кружево, пристрастился к нарциссической игре «сознания, себя сознающего». Она-то со временем и станет сердцевиной всех «чарований» Валери, предопределит их переуплотненность до темноты, весьма неожиданной при его вражде к туманно-безотчетным недомолв кам. Сознание, очнувшееся от сладкой дремы младенческого бездумья, устрашенное и влекомое прозреваемой впереди судьбой, но после колебаний ее приемлющее («Юная Пар ка»); сознание перед тайной круговорота жизни и смерти («Кладбище у моря»); сознание в оцепенелости полночной грезы («Шаги») и вяло пробуждающееся к утреннему бодрствованию («Заря»); сознание, томимое потребностью себя излить, в предвкушении плодов подспудной работы бессознательного вдохновения, мало-помалу вводимого в берега разума («Пальма»), – Валери поглощен метаморфозами своего переутонченного, запутанного самочувствия. В свою очередь, оно зачастую еще и двоится, окаймлено и надстроено пристальным самонаблюдением. Разматывание это го клубка всякий раз дано, правда, не как голое умствование, а как своего рода «жизнемыслие» – непрестанная переработка впечатлений-ощущений, поступающих и изнутри, из подсознательных кладовых личности, и извне, от пытливо созерцаемой природы во всей ее зрелищной, терпкой, звучной полноте: